«Она была полька, и звали её Алисой…»
Быть может, Алиса, за чашкой кофе
Сидишь ты в кругу весёлых людей,
А я всей болью дымящейся крови
Тяну твою душу, как чародей.
(И. Сельвинский. «Алиса». Этюд 13)
Хорошее дело — Интернет, скажу я вам без иронии. Чего только не выловишь в его дебрях! Вот сидела я перед экраном компьютера в полном неведении — а куда же дальше двигаться, кого взять в герои очерка, и вообще — то ли весна виновата с её авитаминозом, то ли что другое, но вот нет вдохновения, потерян кураж, а муки творчества — не пустые слова, раз уж заразился человек вирусом словосложения.
Вспомнила, что нравились мне стихи русского советского поэта Владимира Солоухина. Дай, думаю, посмотрю — может и выйдет что хорошее, душевное. Искала информацию, связанную со стихами 1945 года — кому посвящены, что происходило в жизни поэта и писателя в этот период, а нашла историю, связанную с его повестью «Приговор».
И пошло-поехало… Благо, у меня дома на полке стоит четырёхтомник Солоухина 1984 года издания. Прочитала повесть, появились кое-какие продуктивные идеи. Посмотрела повыше содержание второго тома. А там — «Варшавские этюды». К Польше у меня уже, можно сказать, личностное отношение, очень небезразличное. Вот так и нашёлся сюжет очерка, а вместе с ним и героиня — Алиса, Алиция Жуковская. А героев так и вообще трое — и все ну очень известные люди.
Единственная беда — достоверной информации о моей героине нет, во всяком случае, в таком полезном её море, как Интернет. Скорее всего, её нет и в печатных изданиях — уж больно привлекательная тема, кто-то давно бы вынес её во всемирную паутину.
Не полагаться же безоговорочно на рассказ Владимира Солоухина «Встреча» из этих самых «Варшавских этюдов», если он сам говорит (в повести «Приговор»):
… Я все свои книги пишу от первого лица. Кроме того, как писатель, я владею, по-видимому, даром убедительности, так что все тотчас принимают написанное мною за документ, а между главным героем каждого рассказа и автором не делают никаких различий.
Эта же мысль Солоухина выражена и в его предисловии-биографии «Я шёл по родной земле, я шёл по своей тропе…» к 4-томному собранию сочинений.
И второй мой герой вскользь упоминает Алису в литературном контексте своих рассказов и той же солоухинской «Встречи». А ведь если довериться Владимиру Алексеевичу, то второго героя, о котором я ещё расскажу, и «реальную» Алису связывали очень дружеские отношения.
Единственный достоверный источник информации — это дочь Ильи Сельвинского Татьяна Сельвинская, которая в одном из интервью рассказала следующее («Независимая газета», 20.10.2001):
… Мама была поразительно женственной и поразительно умной. Она всё понимала и умела держать отношения с отцом под своим контролем. Два раза в год отец уезжал — один раз с мамой, второй без неё. Она понимала: так надо. Когда отец опубликовал цикл любовных стихов, посвящённых Алисе (у него была неразделённая любовь к польке по имени Алиса), мама тоже всё поняла и отнеслась к этому спокойно. Многих это удивляло.
Примечание. Сельвинская Татьяна Ильинична (р. 1927), русский театральный художник, живописец, педагог. С начала 1970-х годов пишет стихи.
И ещё одно свидетельство реальности героини поэмы (Владимир Огнев. Амнистия таланту. Блики памяти, журнал «Знамя», 2000, № 8):
В Польше я познакомился с умной и грустной женщиной. Звали её Алиция Жуковска. Я никак не мог отнести к ней строки Ильи Сельвинского из знаменитого цикла «Алиса». Но она жила в них, они стали её духовным двойником. Мягкая и женственная, Алиция в жизни сохранила благодарную память о поэте, воспевшем её образ в сильных, характерных стихах… Так вот, в цикле о ней было такое: «Никуда души своей не денем. Трудно с ней, а всё-таки душа».
Пожалуй, здесь стоит остановиться на личности нашего основного героя — рассказать немного об Илье Львовиче Сельвинском (1899—1968) — русском советском поэте, который родился в Симферополе. О Сельвинском можно много чего рассказать, но ограничусь тем временем, к которому относится история Алисы. А в качестве ещё одного «свидетеля по делу» выступит Галина Михайловна Шергова (31.08.1923), писатель, сценарист, окончившая Литературный институт им. М. Горького в Москве в 1948 году, незадолго до описываемых событий.
Итак, отрывок из воспоминаний Галины Шерговой «Мечта поэта (Илья Сельвинский)»:
Мне посчастливилось заниматься в семинарах и Асеева, и Антокольского и Луговского.
Но мечтала-то я об ином. О семинаре Сельвинского. Все самые знаменитые поэты военного поколения — Давид Самойлов, Борис Слуцкий, Михаил Кульчицкий, Сергей Наровчатов, Павел Коган — ещё с довоенных времён несли Мэтру на суд свои стихи, шли на выучку. Да, это был Высший суд. (Недавно в мемуарах Д. Самойлова я снова прочла об этом)…
… То, что я услышала тогда, было даже не чтением. Говорящей музыкой, шаманством, исполненным ясного смысла. Читал Илья Сельвинский. Читал своё «Лебединое озеро». Перекаты его баса то вкрадчивого, то накрывающего слушателя с головой были подобны тяжёлому дыханию морских волн, подминающих прибрежную гальку и недвижные валуны.
Он сам как-то назвал звучание этого голоса «виолончельным». Но в голосе умещалось всё — и власть соборного органа, и доверительность ученической скрипочки. В движениях же чтеца властвовали повадки его любимых героев — медвежья ленца и свирепая грациозность тигра.
Он был могуч, красив, покоряющ. Я и покорилась. Немедленно. С ног до головы. Слухом, зрением, ощущением пространства, подчинённого только ему.
В таком полуанабиозном состоянии и была представлена Сельвинскому…
Я была во власти его мастерства. Но и не только мастерства. Я, как вы поняли, влюбилась в Сельвинского. Влюблённость эта — к чему лукавить! — отнюдь не мешала моим студенческим романам, ибо была типичным восторгом школьницы перед преподавателем какой-нибудь физики или географии. Впрочем, нет. Мной владела влюблённость в Поэта. Не в однокурсника, сочиняющего, подобно мне стихи, а в Поэта-небожителя. Тут и на взаимность нелепо рассчитывать. Такой должен любить «Прекрасную даму», «Мечту поэта», таинственную и надземную, владеющую особым колдовством…
Вот мы и подошли к самой сути, к тому, о чём мне хочется вам рассказать, — к поэме Ильи Сельвинского «Алиса» (1951 год) и к истории её создания. А дальше остаётся воспользоваться рассказом «Встреча», поскольку ничем другим воспользоваться нет никакой возможности.
Кстати, во всех источниках говорится о «цикле «Алиса», но сам Сельвинский в третьем этюде говорит об Алисе как о героине «поэмы».
Поэму И. Сельвинского «Алиса» и рассказ В. Солоухина «Встреча» из его «Варшавских этюдов» можно прочитать в нашем журнале по ссылкам, расположенным слева на странице.
«Она была — голубой огонь…»
В день, когда по льдинам Заполярья
С ледокола на Чукотский берег
Шёл я на собаках в океане.
Бородатый, тридцатитрёхлетний, —
Где-то в Польше родился ребёнок:
Девочка со льдистыми глазами…
(И. Сельвинский. «Алиса». Этюд 3)
Владимир Солоухин, «Встреча»:
… Восемнадцатилетняя, тоненькая, гибкая, с загадочной полуулыбкой на красивых губах маленького рта, темноволосая, она буквально ослепляла своими глазами. В них прыгали такие синие зайчики, метался такой синий огонь, что надо было чем-то на него отвечать…
Она была полька, и звали её Алисой. В то время в нашем — Литературном — институте училось много ребят из стран народной демократии. Некоторые были моими однокурсниками, другие на год моложе (по курсу, а не по годам), с этими мы давно были друзья-приятели. Алиса появилась значительно позже. Мы на четвёртом, а она ещё только на первом. Вот когда появилась она…
С ней у нас завязались странные дружеские отношения, с самого начала как бы исключающие всё иное…
Ближе всех из нас дружил с Алисой студент… назовём его Кириллом. Они и потом долго переписывались, не теряя друг друга из виду. Но и он, судя по одному стихотворению, явно относящемуся к Алисе, хотя речь идёт там о ёлочке, о колючей зелёной ёлочке, которую всё же кто-нибудь когда-нибудь срубит на Новый год («Свечи зажгут и отпразднуют…»), но и он, судя по этому стихотворению, остался в конце концов при своей неразделённой любви…
Вот на этой пространной цитате я вынуждена прерваться, поскольку пришло время спеть очередную хвалебную оду Интернету. Ну, скажите, пожалуйста, в доисторическое, безинтернетное время, возможно было бы найти и «Кирилла», и его стихотворение без названия, по одной только строке? Нет, энциклопедически образованному в области российской словесности человеку, или же вращающемуся в литературных или окололитературных кругах, наверное, это под силу. Но мне, уж 15 лет как оторванной от «русских берёз», мне, заработавшей «амнезию» в условиях перманентных политических и экономических кризисов, мне, упрекаемой моими российскими друзьями в потере чувства русской речи, которая «начинает сказываться», мне оставалось положиться на возможности Интернета. И я нашла! Нашла и «Кирилла», которого не нужно было называть якобы первым попавшимся именем, поскольку он таки Кирилл — Кирилл Ковальджи, известный русский поэт, нашла и его стихотворение о ёлочке, которое так и называется — «Ёлочка», нашла и его упоминания об Алисе и «Алисе» (Кирилл Ковальджи, «Мой долгий краткий век»):
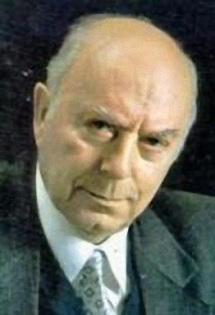 … Я уже был на втором курсе Литинститута, когда к нам приехала из Польши Алиция Жуковская, красавица, чертовка, наделавшая немалого переполоху (она героиня любовного цикла стихотворений Сельвинского «Алиса», рассказа Солоухина «Встреча», я с неё писал Зосю в повести «Пять точек на карте» и о ней же — в «Моей мозаике»). Я тоже был влюблён и удостоился её благосклонного внимания. Однако я медлил и однажды похвастался отцовской теорией сдержанности чувств. Она напала на меня в прекрасной ярости:
… Я уже был на втором курсе Литинститута, когда к нам приехала из Польши Алиция Жуковская, красавица, чертовка, наделавшая немалого переполоху (она героиня любовного цикла стихотворений Сельвинского «Алиса», рассказа Солоухина «Встреча», я с неё писал Зосю в повести «Пять точек на карте» и о ней же — в «Моей мозаике»). Я тоже был влюблён и удостоился её благосклонного внимания. Однако я медлил и однажды похвастался отцовской теорией сдержанности чувств. Она напала на меня в прекрасной ярости:
«Кто тебя так испортил? Это немцы учили своих мальчиков: презирайте чувства, стыдитесь их. Если идёшь на фронт, и мать к тебе бросается, плача, будь мужчиной, отстрани её, и пусть ни один мускул на твоём лице не дрогнет. Будь выше чувств, так? Хочешь, я прочту тебе по-польски «Импровизацию» Мицкевича? Это огонь, пламя. Может, хоть что-то поймёшь»…
А вот и стихотворение «о ёлочке»!
Ёлочка
В тихой печали светлого вечера
стоишь, зеленеешь ты,
такая простая,
такая доверчивая,
не зная своей красоты.
Такую, как ты, нельзя не любить, —
полюбят тебя
и сгубят;
такую, как ты, нельзя не срубить,
зимою придут
и срубят.
Будешь стоять на радость семьи
в праздничном великолепьи;
лягут на юные руки твои
золотые
бумажные цепи.
Тебе подсунут вместо корней
подставку крестообразную…
Как больно мне будет видеть в окне:
свечи зажгут…
отпразднуют…
Примечание. Кирилл Ковальджи — поэт, прозаик, критик, переводчик, родился в Бессарабии в 1930 году.
«Ей ведь, упоённой, невдомёк, что она задумана природой лишь затем, чтобы войти в поэму!»
Ну, вот я прочитала всё, что смогла найти по истории Алисы. И вы вместе со мной прочитали. Что же из этого следует? Что здесь правда, что поэтический вымысел? Или, выражаясь современным языком, если уж столько слов отведено Интернету, как разделить в истории Алисы «реальную виртуальность» или «виртуальную реальность» на составные компоненты? И можно ли? И нужно ли? И не стоит ли оставить эту историю полёту индивидуальной фантазии каждого из прочитавших поэму?
Ведь, в сущности, — банальная история любви Мэтра и ученицы, скорее всего и точнее — поэтический миф, созданный фантазией Сельвинского. Яркий сюжет, идущий в руки, не оставляющий иных возможностей, кроме как изложить всё это в стихотворных строках.
И уж если совсем честно, положа руку на сердце, — нужно признать, что поэма — отнюдь не луч света в поэтическом царстве, бывают и стихи получше, и мысли пооригинальнее.
Взять того же Павла Когана, намного превзошедшего своего учителя, как мне кажется.
Вот просто возьмите и прочитайте очерк «Ветер. Ветер. Ветер тополиный золотую песню расплескал…», недавно опубликованный в нашем журнале.
Но если дело не в стихах, хотя, судя по цитируемости «Алисы» в Интернете, и в стихах тоже, то в чём же тогда? Всё же в Алисе, в Алиции Жуковской, в той традиционной магии, «манкости» образа польской пани? Сколько поэтов попадали под очарование польских женщин! Да хоть бы с Пушкина начиная, а продолжая… правильно, можно продолжить историей взаимоотношений с Польшей и её яркой представительницей, Агнешкой Осецкой, любимого поэта нашего журнала Булата Окуджавы.
«Все мои симпатии к Польше как к народу, как к исторической категории пошли от Алисы, дай ей бог здоровья и счастья!», — написал Владимир Солоухин.
«Я давно очарован Польшей. Почему так случилось — не знаю. Черты национального характера, история и великая польская культура мне близки. Хорошо знаю её историю — прекрасную, трагичную и героическую. Близки мне поляки — мудрые, остроумные, тонкие, музыкальные», — это уже Окуджава, его комментарий к стихотворению «Прощание с Польшей» («…Мы связаны, Агнешка, давно одной судьбою…»).
 Несомненно, рассказ Солоухина можно было бы воспринять в качестве удачной литературной мистификации на благодарной основе поэмы Сельвинского, не будь других «свидетелей по делу». Ну очень большой путаник Владимир Алексеевич, тем более в свете его собственных признаний о совпадениях (несовпадениях) автора и литературного героя.
Несомненно, рассказ Солоухина можно было бы воспринять в качестве удачной литературной мистификации на благодарной основе поэмы Сельвинского, не будь других «свидетелей по делу». Ну очень большой путаник Владимир Алексеевич, тем более в свете его собственных признаний о совпадениях (несовпадениях) автора и литературного героя.
… Манеру писать рассказы от первого лица можно воспринимать как литературный приём, который имеет свои «за» и свои «против». Возникает у читателя дополнительное ощущение достоверности, рассказ обладает дополнительной силой убедительности, что, конечно, немаловажно… Персонаж, от имени которого ведётся повествование… становится литературным образом, так что нельзя поставить полноценного знака равенства между ним и автором, хотя читатель этот знак равенства всё равно ставит…
И эта улыбка в его глазах, едва уловимая, хитрая насмешливость… Или это только моё субъективное мнение? С другой стороны, при его таланте, при его собственной яркой жизни зачем ему чужие поэтические сюжеты своей прекрасной прозой пересказывать?
Даже если принять во внимание непререкаемый авторитет Ильи Сельвинского в литературных кругах. А что если попробовать опровергнуть утверждение Солоухина и попробовать вместо знака равенства поставить волнистый штришок, что означает — «приблизительно»?
… Илью Львовича Сельвинского я увидел в 45-м году. Ему, значит, было сорок шесть лет, а мне двадцать один. В 1950 году, соответственно, ему было 51 (сколько сейчас мне, пишущему эти строки), а мне — двадцать шесть. Алисе — восемнадцать. Вот и вся расстановка сил…
Только ещё начиная пробегать глазами все пятнадцать этюдов, из которых состоит поэма, я уже уверенно знал, что это про ту, про нашу Алису…
Таких совпадений быть не могло. Чтобы и Алиса, и полька, и со льдистыми глазами. Значит, вот оно что! Ходила к нему на семинар, и он её полюбил. Ему пятьдесят один (как мне теперь, когда пишу эти строки), а ей восемнадцать…
Алиса смотрела на нас всех спокойными, умудрёнными и как будто немного смеющимися глазами. Может быть, и не насмешливыми и не смеющимися даже, но выражающими некоторое покровительство (это у восемнадцатилетней девчонки!). Не побоюсь сказать, что было в её взгляде что-то материнское по отношению к нам, в общем-то тоже нестарым ещё парням…
Это последняя моя пространная цитата из рассказа В. Солоухина «Встреча». Остальное вы прочитаете сами.
Вернёмся ещё раз к воспоминаниям Галины Шерговой, относящимся уже к первой половине 60-х:
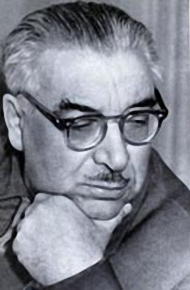 … Сельвинский был уже стар и болен. Хотя ему едва перевалило за шестьдесят, могучий организм одолели война и бесконечные идеологические травли, которые волнами накатывали на поэта ещё с 30-х годов… Илья Львович сказал какие-то добрые слова, и я, уже свободная и умудрённая жизнью, спросила:
… Сельвинский был уже стар и болен. Хотя ему едва перевалило за шестьдесят, могучий организм одолели война и бесконечные идеологические травли, которые волнами накатывали на поэта ещё с 30-х годов… Илья Львович сказал какие-то добрые слова, и я, уже свободная и умудрённая жизнью, спросила:
— А вы когда-нибудь фанатически любили?
Он задумался, потом произнёс:
«Я никогда в любви не знал трагедий.
За что меня любили? Не пойму…»
Эти две строчки — начало «Сонета» Ильи Сельвинского (1950 год). Вот его полный текст.
Я никогда в любви не знал трагедий. За что меня любили? Не пойму. Походка у меня как у медведя, Характер — впору ветру самому. Быть может, голос? Но бывали меди Сродни виолончельному письму. Умишко? Но иного по уму Приравнивали мы к самой комете! А между тем была ведь Беатриче Для Данте недоступной. Боже мой! Как я хотел бы испытать величье Любви неразделённой и смешной, Униженной, уже нечеловечьей, Бормочущей божественные речи.
Обратите внимание! «Сонет» написан в 1950-м, а в 1951-м появляется «Алиса» — поэтическая иллюстрация к последней строфе «Сонета».
А тут ещё перекличка — «Варшавские этюды» Владимира Солоухина, «Этюды» поэмы Сельвинского, культовый спектакль по пьесе Леонида Зорина 1967-го года «Варшавская мелодия»… Меня не покидает ощущение какой-то явственно зримой театральности всего, что связано с Алисой и «Алисой».
«Варшавская мелодия» — история любви польки Гелены, студентки консерватории, и русского парня Виктора, студента-технолога (винодела). Влюблённым не суждено быть вместе из-за указа, изданного советским правительством 16 февраля 1947 года и запрещавшего нашим гражданам вступать в браки с иностранцами…
В финале пьесы повзрослевшие герои, прожившие свои отдельные жизни, встречаются, но ничего уже не изменишь, и только звучит мелодия (увы, варшавская), и героиня поёт свою песню…
В нашей истории с повзрослевшей Алисой спустя более двух десятков лет встречается Владимир Солоухин («Варшавские этюды». «Встреча»).
И вот опять сомнения…
Слишком уж много литературного, театрального в истории «Алисы». Все свидетельства очевидцев написаны гораздо позже, вслед событиям, и тоже есть в них что-то эдакое, к реальности мало относящееся, а скорее, к той же самой литературе. Попробуем выстроить логическую цепочку из полученной информации.
Немного биографии.
В 1918 году Сельвинский принимал участие в подготовке революционного восстания в Евпатории. Весной 1919 года ему пришлось бежать в Севастополь, где он был выдан провокатором, арестован и посажен в тюрьму. В 1932 году Сельвинский в качестве корреспондента газеты «Правда» участвовал в знаменитом арктическом рейсе ледокола «Челюскин». В первые дни Великой Отечественной войны Илья Львович уезжает на Южный фронт. Военный корреспондент армейской газеты «Сын отечества», в составе войск 51-й армии он участвует в обороне Крыма. 19 марта 1968 года поэт написал последнее стихотворение. Умер 22 марта 1968 года в Москве.
Поэт-небожитель, Мэтр, талантливый педагог, фронтовик, при этом чарующий, завораживающий голос…
Харизматическая личность.
Ты помнишь, ворон, девушку мою? Как я сейчас хотел бы разрыдаться! Но это больше невозможно. Стар.
Это финал стихотворения «Севастополь», которое Илья Сельвинский, 45 лет отроду, написал в 1944 году, находясь в действующей армии. Но прошло каких-то 6 лет, и у Большого поэта совсем другое настроение:
А между тем была ведь Беатриче Для Данте недоступной. Боже мой! Как я хотел бы испытать величье Любви неразделённой и смешной…
И Беатриче появилась — «Она была полька, и звали её Алисой…»
Мне кажется, уместно будет прибегнуть к своеобразной экстраполяции — попробовать реконструировать чувства, эмоции, ощущения одной молодой девушки на основе того, что писала другая молодая девушка в сходных обстоятельствах. Я имею в виду Галину Шергову и Алицию Жуковскую. Две студентки Литературного института, две слушательницы семинара Сельвинского, а почему бы и нет?..
В воспоминаниях Галины Шерговой есть забавный фрагмент, когда она, влюбившись в Мэтра, размышляла о Музах поэтов, примеряла на себя эту роль, пока не поняла одну немаловажную вещь:
… Нет, о, нет, конечно, дело было не в открывшихся несовершенствах моего Божества… Я вдруг спасительно осознала вымышленность, легендарность Прекрасных Дам, Мечт Поэтов, всех этих Лаур и Беатричей. Их подлинные имена Берта Яковлевна, Вера Эдуардовна, Мария Ивановна и прочие…
Вот такая «виртуальная реальность», или «реальная виртуальность»…
И вот представьте себе студенческую аудиторию, несколько десятков завороженных глаз, слушающих Мэтра, и среди них Она — Беатриче, в миру — Алиция Жуковская, которая «буквально ослепляла своими глазами. В них прыгали такие синие зайчики, метался такой синий огонь, что надо было чем-то на него отвечать» (это я цитирую Владимира Солоухина).
Представьте себе не просто Большого поэта, а наверняка образованного человека, в воображении которого и гордая полячка Марина Мнишек, и юная Суламифь, и печальная гётевская Маргарита… Такая вот «Песнь Песней» и стареющий библейский царь Соломон, в миру поэт Илья Сельвинский, перешагнувший свой пятидесятилетний порог.
— А знаешь? А ведь ты похож на тигра! — А я подумал: нужен только образ, Чтоб увидать в уродстве красоту… … Походка у меня как у медведя…
«Медвежья ленца и свирепая грациозность тигра» — скажет позже Галина Шергова то ли по своим личным воспоминаниям, то ли перепутав свои впечатления со строками Сельвинского.
Интересно, что, упоминая о женщинах в жизни Ильи Сельвинского, Шергова пропустила такую яркую сюжетную линию, как история, связанная с Алицией Жуковской. И мне кажется, что это выходит из её осознания «вымышленности Прекрасных дам».
«… Она задумана природой лишь затем, чтобы войти в поэму» — так написал Сельвинский. Не в реальную жизнь войти, а в поэму — обратите на это внимание.
Поэтому не стоит однозначно толковать слова из первого Этюда — «Сплетня заметалась, как в бреду». Принимая во внимание Указ от 16 февраля 1947 года, ситуаций могло быть множество, и кому-то могло повезти больше, чем «юнцам» на тот момент — Владимиру Солоухину и Кириллу Ковальджи. Как знать, как знать, что послужило изгнанию 18-летней красавицы-польки из Литературного института.
«У него была неразделённая любовь к польке по имени Алиса», сказала дочь Сельвинского. Но в том же интервью Татьяна Ильинична совершенно спокойно говорит об увлечениях своего отца, более того, признаёт право на эти увлечения, поскольку так относилась к романам поэта её мать, Берта Яковлевна Сельвинская. Что стоило признать одно, если уже признано многое другое? Значит, всё же Беатриче и только?
«Она героиня любовного цикла стихотворений Сельвинского «Алиса», рассказа Солоухина «Встреча», я с неё писал Зосю в повести «Пять точек на карте» и о ней же — в «Моей мозаике», — так кратко написал об Алиции Кирилл Ковальджи. Героиня, вдохновительница, прообраз… и только. Ах, как жаль, ах, как жаль…
«Должен признаться теперь, что небольшая поэма, о которой сейчас пойдёт речь, не была мною прочитана своевременно. Попалась на глаза, может быть, уже в 55-м году, а не в год её написания и публикации» (Владимир Солоухин. «Встреча»).
Я недаром обратилась к этому фрагменту рассказа. Все заинтересованные лица, все мои «свидетели по делу», в отличие от меня, могли своевременно прочитать поэму Сельвинского и прокомментировать. Некоторые даже, под впечатлением от прочитанного, написать что-нибудь своё, но близкое по теме, по сюжетной линии. Это я о пьесе «Варшавская мелодия», написанной Леонидом Зориным за год до смерти автора «Алисы».
Ведь никто доподлинно не знает, что пробуждает вдохновение, как рождаются те или иные замыслы и сюжеты. Возможно, такая, творческая, взаимосвязь «Этюдов», «Варшавских этюдов» и «Варшавской мелодии» только кажущаяся, только плод моей фантазии.
«Такой должен любить «Прекрасную даму», «Мечту поэта», таинственную и надземную, владеющую особым колдовством. Увидеть бы её! Разгадать непостижимое! Выучиться бы хоть азам Её пленительности!» — писала Галина Шергова о кумире свой юности.
Увидеть бы Алицию Жуковскую! Она родилась в 1932-м, следовательно, с большой вероятностью живёт до сих пор то ли в Варшаве, то ли в маленьком городишке под Люблином, почти на границе с Украиной.
И ещё немного об Алисе повзрослевшей, Алисе, прожившей на родине непростые более чем двадцать лет, в какой-то степени предсказанные ей поэмой («Письмо Алисы»). Из рассказа Владимира Солоухина «Встреча»:
… А что она будет делать целый вечер в своей квартире? На мгновение у меня проснулось желание попросить таксиста повернуть обратно на ту стоянку. Но, зная Алису, я знал, что этого не стоит делать. Алиса — полька и не приняла бы этого жеста, даже если бы он исходил от такого давнего друга, каким был я…
Ах, эти удивительные польские женщины, у которых не только «постава», но и «гонор». Эти слова даже перевода не требуют, да и как их перевести точно?
Ведь недаром мой очерк «К чему нам быть на «ты», к чему?», посвящённый известной песне Булата Окуджавы (вольному переводу стихотворения Агнешки Осецкой), завершает примечание редакции: «На взгляд редакции, стихи Осецкой, возможно, даже сильнее, пронзительнее стихов Окуджавы. Можно сказать, те просто скомканы. Так бывает, когда мужчина смущён».
Убедиться в этом можно, прочитав польский оригинал стихотворения.
Я не знаю, в каком процентном соотношении находятся правда и вымысел в рассказе Владимира Солоухина, но это на данный момент единственный источник информации для русскоязычного читателя, «реальность» которого проходит в пределах постсоветского пространства, а «виртуальность» заносит в дебри русскоязычного сегмента Интернета.
Этюд 11
Не в том, не в том моя беда,
Что, утеряв тебя навек,
Я не увижу никогда
Ни этих губ, ни этих век,
А в том, что, если бы, любя,
Ты захотела новых встреч,
Я отказался б от тебя,
Чтобы любовь твою сберечь.
Палома, март—апрель 2007 года