От редакции
В жизни всегда есть место если не подвигу, то чуду, и пока сохраняет в себе человек эту детскую непосредственность в ожидании чуда, оно с ним случается. Так произошло и с нашей серией публикаций об Алиции Жуковской — Алисе и «Алисе». А с чего всё началось? С прочитанной когда-то ещё в юности повести Владимира Солоухина «Приговор», которая должна была занять своё место в «копилке» любимых книг редакции нашего журнала. И надо же было такому случиться, что выше, в том же втором томе четырёхтомника, изображение которого вы видите слева во всех публикациях серии, помещён рассказ «Встреча» из «Варшавских этюдов» Владимира Солоухина. Потянув за ниточку повествования, мы неожиданно распутали весь клубок. И вот теперь предлагаем вниманию читателей последнюю главу, а она и есть то самое чудо, сродни детской новогодней елке с подарками под ней.
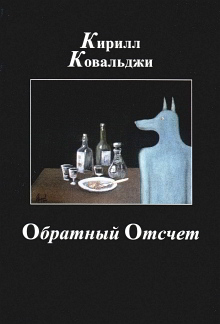 На серию наших публикаций обратил внимание один из её главных героев — замечательный русский поэт и писатель Кирилл Владимирович Ковальджи. Да, тот самый Кирилл Ковальджи, о котором упоминает в рассказе «Встреча» Владимир Солоухин. Тот самый Кирилл Ковальджи, воспоминания и стихи которого я цитировала в первой публикации серии — «Она была полька, и звали её Алисой…»
На серию наших публикаций обратил внимание один из её главных героев — замечательный русский поэт и писатель Кирилл Владимирович Ковальджи. Да, тот самый Кирилл Ковальджи, о котором упоминает в рассказе «Встреча» Владимир Солоухин. Тот самый Кирилл Ковальджи, воспоминания и стихи которого я цитировала в первой публикации серии — «Она была полька, и звали её Алисой…»
Кирилл Владимирович написал нам письмо, в котором отметил некоторые неточности в истории Алисы. К большому сожалению, стихотворение «Ёлочка», увы… не о ней. Владимир Солоухин узнал об этом после публикации «Встречи», но вот оставил «Ёлочку» или не успел внести правки. Мы её тоже оставим у себя — как своеобразный символ чуда, которое всё же случается. Конечно, мы не могли не воспользоваться возможностью узнать от героя нашего цикла о дальнейшей судьбе Алиции Жуковской. Так что нам остаётся только поблагодарить Кирилла Ковальджи, а дальше — его собственный рассказ об Алисе и не только о ней.
Илья Сельвинский
17 ноября 1999 года к столетию Сельвинского «Литгазета» дала куцый материал, скромно подписанный М. Г. — расширенная информация о вечере в ЦДРИ, посвящённом поэту. А какая шумная фигура была! Одно время Сельвинский пытался оспаривать пальму первенства у Маяковского. Теперь эта претензия кажется нелепой, хотя, было время, Багрицкий его включил в первую тройку: «Тихонов, Сельвинский, Пастернак» (Сельвинский — перед Пастернаком! По иронии судьбы он в хрущёвские времена присоединился к травле Пастернака, хотя, находясь в Крыму, мог бы и промолчать). Крупный, голосистый, пышущий творческой энергией, но на поверку… мелковат как личность. После смерти довольно быстро отошёл на задний план, пропустив вперёд затираемых при нём первоклассных поэтов-современников (например, Мандельштама). Он мне и в советскую пору не импонировал, хотя ряд его стихотворений я прочно поместил в копилку своей памяти.
Вышло так, что я, по сути, мельком видел его раз-другой (запомнилось — в Малеевке, в 1952-м), но судьбе было угодно, чтоб мы пересеклись дважды: в увлечении Алицией Жуковской и в связи с редактурой его переводов из Андрея Лупана.
Он познакомился с Алей в той же Малеевке, влюбился и по возращении в Москву стал посылать ей стихи. Она мне их показывала со снисходительной улыбкой — я не ревновал (стар!), только удивлялся, что он шлёт ей стихи на машинке (почему не от руки?), и не очень серьёзно к ним отнёсся (посчитал их рядовыми, чуть ли не баловством пожилого ловеласа). Теперь вижу, что цикл «Алиса» один из лучших в его лирике (так считал и Солоухин — см. его рассказ «Встреча»). Его увлечение было нешуточным (хотя в упомянутом номере «Литературки» написано: «Через всю свою жизнь пронёс Сельвинский трогательную и единственную любовь к своей красавице-жене Берте…»). Но когда Алю осудили поляки и больше не пустили в Москву, она зря надеялась на его заступничество. Он ничего не предпринял…
Аля рассказала такую деталь: они вечером гуляли по лесу, он, рассказывая ей свои странствия, перебирал чётки. На её вопрос ответил, что это память о ком-то или талисман. Аля попросила: «Дайте мне их». Он дал. «Они вам так дороги?» — спросила она и далеко зашвырнула чётки в кусты.— «Будете искать?»… Он достойно выдержал эту выходку, продолжал с ней идти, как ни в чём не бывало. Через много лет я побывал у Али в Варшаве. Вдруг во время разговора я заметил, что она перебирает какие-то чётки. Я вспомнил Сельвинского и спросил. Аля несколько смутилась, потом призналась, что тогда, расставшись с поэтом, вернулась на то место в лесу, долго искала и всё-таки нашла его чётки. Но он об этом так и не узнал.
Впоследствии я написал об этом стихотворение «Простая баллада» (опубликовано в сборнике «После полудня»), заменив чётки книгой…
Второй раз мы столкнулась опять же заочно. Я в Кишиневе редактировал книгу Лупана, тот попросил меня исправить одно место в переводе Сельвинского. Я, не задумываясь, исполнил это. И был по справедливости наказан. Сельвинский выступил в «Литгазете» с протестом против редакторского произвола. Он назвал меня в своей статье «железной рукой». По молодости лет я не сдержался и ответил ему в статье «Давайте поспорим» (журнал «Днестр» № 1 за 1958 г.).
К сожалению, я так и не познакомился с ним.
P. S.
Польский поэт Рышард Данецки, мой друг по Литинституту, подарил мне свои переводы из Ильи Сельвинского, сборничек, в котором помещено и письмо к нему самого поэта, датированное 29 сентября 1958 года. В письме есть такие строки:
«Сердечный привет Алисе Жуковской. Мне очень жаль, что я о ней ничего не знаю: работает ли она в литературе? Имеет ли успех? Вышла ли замуж? И вообще — счастлива ли она?»
Должен сказать, что Алиция неоднократно приезжала в Москву. В первый раз она появилась, кажется, в 1961 году. Встречалась со мной, с Солоухиным, но с Сельвинским видеться не захотела. То ли потому, что изменилась за эти десять лет (потолстела, что при её небольшом росте было весьма заметно) и желала остаться в памяти поэта той, что была; то ли потому, что он в свою пору не заступился за неё, а она верила в его возможности, в авторитет видного советского писателя.
Алиция замуж не вышла. Родила сына от женатого человека, потом у неё был сложный роман с пожилым польским поэтом Слободником. Наконец, она покинула Варшаву, стала преподавать в Люблинском университете русский язык. В последний раз я её видел во время перестройки, переписка продолжалась и как-то сама собой сошла на нет, я потерял её из виду. Года три назад я был в Варшаве, но никто из моих знакомых ничего о ней сказать не смог…
Послесловие к публикации
Ну, вот и закончена наша история. Почти закончена, поскольку последнюю точку в ней может поставить только сама героиня. Опять ждать чуда?
 Но напоследок мне хочется «подправить» рассказ Кирилла Ковальджи его же собственными словами, подсмотренными мной на одной из его страниц в Интернете и предваряющими его стихотворение «Я угадал», написанное в апреле 1950 года:
Но напоследок мне хочется «подправить» рассказ Кирилла Ковальджи его же собственными словами, подсмотренными мной на одной из его страниц в Интернете и предваряющими его стихотворение «Я угадал», написанное в апреле 1950 года:
Теперь хочу отметить любопытный факт: я написал стихотворения о польке по мимолётному поводу, но… как бы предугадывая скорое появление Алиции в моей жизни. То же самое произошло и с Сельвинским, который незадолго до встречи в Алицией написал сонет, где есть строка «Как я хотел бы испытать величье / Любви неразделённой…». Оба учуяли, что случится…
«… Судьбе было угодно, чтоб мы пересеклись дважды: в увлечении Алицией Жуковской и в связи с редактурой его переводов из Андрея Лупана», — пишет Кирилл Ковальджи о Сельвинском в своём рассказе.
Пожалуй, всё же трижды… А это предвидение? Мистическое озарение? «Нам не дано предугадать, как слово наше отзовётся»… Если не принимать во внимание контекст четверостишия Фёдора Тютчева, то и Кирилл Ковальджи, и Илья Сельвинский оспорили первые две строки своими предугадывающими стихотворениями. В этом и есть, на мой взгляд, третье пересечение их судеб.
Остаётся только предложить вниманию читателей оба стихотворения Кирилла Ковальджи.
Я угадал
Может быть, сила адовая,
может быть, просто бред…
В глубине твоих глаз угадываю
прошлого
красный след.
Может быть, чувство пылкое,
может быть чад ночей…
Вижу —
дрожит в твоих жилках
голубая кровь шляхтичей.
Наверно, в далёком веке
над Вислой, где гнулись мосты,
с влюблённым в тебя человеком
стояла надменная
ты.
Красавице слава нравится!
Шляхтич
на русской земле,
чтоб славу добыть красавице
рубит, привстав в седле.
Надо варшавской женщине
громкой любви короля,
пожара
Москвы бревенчатой,
поклона
башен Кремля!
В бурке, кровью пропитанной,
пан молодой упал,
пан молодой под копытами
имя твоё шептал!
Наверно, ты это, хитрая,
Мариною
в те часы
влюблённого Лжедмитрия
бросила на весы.
Когда же качнулись чаши
и он проиграл, —
уже
|
для сердца он не величайший,
а просто презренный
Лже!
Он обманул надежды,
он виноват,
оттого
пусть пушки Марину утешат,
развеяв пепел его!
Презрительная ужимка,
спокойствие палачей…
Я вижу —
дрожит в твоих жилках
голубая кровь шляхтичей.
Не проведёшь!
Не обманывай!
Я умный.
Я понял враз,
что ты возвратилась заново
по блеску надменных глаз.
Скромная,
в скромном платьице,
прячешься в людной толпе.
Многие жизнью поплатятся
за то, что поверят тебе!
Сердце ковром расстелено,
по сердцу
ступай наугад.
Видишь — опять,
расстрелянный,
кровью истёк закат.
Взыщешь за этот кошмар с кого?
Красной площади шум…
Минина и Пожарского
спасти моё сердце прошу!
(Апрель, 1950)
|
Ночная баллада
«Вот в этой книге жизнь моя,
мои полсотни лет,
война, чужбина и беда,
любовь, тоска и свет,
здесь весь мой мир…» —
в ночном лесу
так говорил поэт,
а у неё лишь красота
и девятнадцать лет.
Ей было девятнадцать лет,
она была права,
в ту ночь ей были ни к чему
далёкие слова, —
когда он книгу ей вручил,
она из озорства
её метнула в темноту,
где корни и трава.
|
«Посмотрим, сможешь ли, поэт,
былое превозмочь?
За кем погонишься из нас?» —
и побежала прочь.
Но медленно пошёл поэт
своим путём сквозь ночь,
один шагал он, и никто
не мог ему помочь…
Она вернулась и нашла
ту книгу меж корней.
Он не узнал…
И умер он
в один из чёрных дней.
Но после смерти всё ясней
вставал он перед ней…
Она состарилась в глуши.
Что может быть грустней?
|
Нет, оказывается, это ещё не всё!
Не успела я написать — «Ну, вот и закончена наша история. Почти закончена, поскольку последнюю точку в ней может поставить только сама героиня. Опять ждать чуда?», — как чудо и произошло. Хотя последнюю точку поставила не Алиция Жуковская, а опять-таки Кирилл Ковальджи:
Письмо из Варшавы, не датировано. По содержанию понятно, что оно написано не позже 1962 года, когда упомянутые в письме стихи были опубликованы на польском языке. Я к этому времени уже был женат, сыну пошёл шестой год. Отсюда и обращение. Прописная буква в личном местоимении — так принято писать в Польше. Привожу не полностью (сохраняю лёгкие стилистические шероховатости).
Письмо Алиции Жуковской Кириллу Ковальджи:
Дорогие друзья! Простите, что вовремя не отвечаю. Просто столько работы и всяких хлопот, что некогда. Легче подумать о Вас, чем сесть за столом и написать письмо. Благодарна за то, что Ты, Кирилл, не такой лентяй, как я. В ежемесячнике издаваемом Общест. Польск.-советск. дружбы печатаю 6 Твоих лирических стихов: «Паровоза ровный шум», «Письмо от матери», «Ветер гонит облака толпою», «Человек ходил и улыбался», «Предисловие», «Отзвук». Не знаю, хорошо ли подобрала, но мне нравятся. Хотя тот ежемесячник имеет не такой уж большой круг читателей (тираж 5 тысяч), однако стихи Твои будут печататься в переводе известного польского поэта — ровесник Ю. Тувима — Владимира Слободника. Конечно, когда номер выйдет из печати, вышлю его Тебе, или привезу, так как должно быть во второй половине ноября приеду в Москву.
Привет для Нины и Сани.
Целую Вас всех.
А. Жуковска
А две старые фотографии — Алиса 1951-го года — ну чем не чудесное завершение нашей серии?
Нажмите здесь, и перед вами появится она — «девочка со льдистыми глазами»…
Я часто думаю: красивая ли ты? Но знаю: красота с тобою не сравнится, В тебе есть то, что выше красоты, Что лишь угадывается и снится. (Илья Сельвинский. «Алиса». Этюд 5)
Палома, май 2007 года