(Продолжение статьи. Перейти к началу)
«…И законная жена его Евдокiя»
Легко можно представить себе то состояние, в котором находилась Евдокия Шихобалова в рождественские дни 1907 года. Несчастья — смерть самых близких людей — обрушились на неё одно за другим. Траурные мероприятия в Покровской церкви, к её ужасу, становились для неё делом словно бы уже и привычным, и даже 70-летний протоиерей Николай Иванович Русанов, многое повидавший на своём веку, начинал, должно быть, ловить себя на странной мысли, что он не только побаивается, но и невольно готовится к новой — очередной — «встрече» с несчастной вдовой.
Август 1906 года: её последняя, как Евдокии, вероятно, казалось, дочь Нина. Ещё через три месяца: муж Иван, за которого она вышла 16-летней девчонкой и за которым все эти годы она была словно за каменной стеной — все 19, день в день, совместно прожитых лет. И вот теперь новый, невероятной силы удар судьбы: внезапная смерть её первенца, её старшей (а после ухода малышки Нины — уже и единственной) дочери Александры, её так быстро и так незаметно повзрослевшей Шурочки, до 18-летия которой и оставалось-то всего ничего — полтора месяца…
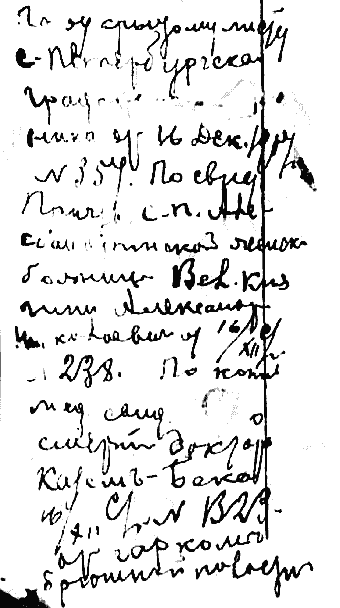 Трудно сомневаться в том, что Евдокия сделала тогда всё возможное и невозможное, чтобы спасти Александру. Но спасти её было нельзя.
Трудно сомневаться в том, что Евдокия сделала тогда всё возможное и невозможное, чтобы спасти Александру. Но спасти её было нельзя.
Справа показан фрагмент метрической записи о смерти Шуры и о её погребении — перечисление тех формальных бумажек и справок, на основании которых, собственно, и была эта запись внесена в метрическую книгу Покровской церкви:
По открытому листу С-Петербургского градо<началь>ника от 16 Дек. 1907 г. № 357.
По свид. Прист. С-П. Александринской женск. больницы Вел. княгини Александры Николаевны от 16/XII с/г № 238.
По копии мед. свид. о смерти доктора Каземъ-Бека 16/XII с/г № 1323 - от саркомы брюшной полости
Саркома брюшной полости… Целый комплекс опаснейших злокачественных заболеваний, которые не всегда удаётся вовремя обнаружить, которые развиваются довольно быстро и дают обширные метастазы. «Развиваются довольно быстро» — вероятно, Александра заболела в 1907 году, уже после ноябрьских похорон своего отца. Отказываясь верить словам и особенно прогнозам местных врачей, Евдокия (не исключено, что с помощью «петербурженки» Елены Максимовны Шихобаловой) поместила дочь в одну из лучших столичных больниц и привлекла к её лечению лучших врачей России (к числу которых, несомненно, относился и Алексей Николаевич Казем-Бек — выдающийся диагност, профессор Казанского университета, на тот период времени руководивший факультетской терапевтической клиникой).
Едва ли можно сомневаться и в том, что последние месяцы жизни Александры Шихобаловой её мать провела там же, в Петербурге, рядом с умирающей дочерью. А затем Евдокии предстояло ещё найти в себе силы для последнего долгого прощания с нею — в холодном и полутёмном декабрьском вагоне, на обратном скорбном пути из Петербурга в Самару…
Был ли тогда рядом с нею 28-летний Илья Шатров? Он объявился в Самаре в самый страшный период её жизни, когда, как ей казалось, в одночасье рухнуло всё, когда и опереться-то 36-летней Евдокии, с двумя сыновьями на руках, 12-летним подростком Павликом и совсем ещё маленьким, 7-летним Николаем, — было фактически не на кого.
Был ли тогда рядом с нею Илья Шатров и что и как произошло потом — мы не знаем. Ясно одно: именно в молодцеватом капельмейстере Шатрове нашла Евдокия свою опору.
Мы не знаем также — метрическая запись об их браке до сих пор не обнаружена — той точной даты, когда они стали мужем и женой. Видимо, это случилось не ранее второй половины 1908 года (с учётом траура по недавно умершей Александре трудно себе представить более раннюю дату), но не позднее, скажем так, второй половины 1909 года.
Допустим, с трауром всё понятно. Но откуда взялась эта последняя дата — вторая половина 1909 года?.. Вот откуда. Метрическая книга Троицкой церкви за 1910 год. Июль:
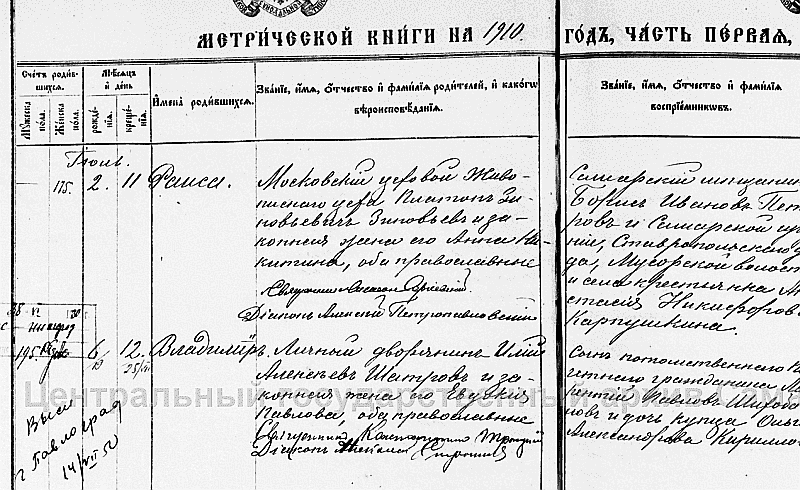 Запись о рождении Владимира Ильича Шатрова. Метрическая книга Троицкой церкви за июль 1910 года.
Запись о рождении Владимира Ильича Шатрова. Метрическая книга Троицкой церкви за июль 1910 года.
Центральный государственный архив Самарской области, ф. 32, оп. 33, д. 480 (листы 108об и 109)
Владимир Шатров, первый сын Ильи Шатрова и Евдокии Шихобаловой, родился 6 июля 1910 года, а 12 июля мальчика крестили. Метрическая запись о его родителях:
Личный дворянинъ Илiй Алексѣевъ Шатровъ и законная жена его Евдокiя Павлова, оба православные.
(Замечание в скобках: обращают на себя внимание две пометки слева от этой записи. Одна из них, на штампе, датирована 1930-м годом, а другая, о высылке копии в г. Павлоград, — так и вовсе 1950-м годом. Другими словами, Владимир Ильич Шатров, сын Евдокии Шихобаловой — и, между прочим, брат её дочери Александры! — благополучно пережил все последующие войны и революции. Впрочем, чуть ниже мы ещё поговорим об этом более подробно…)
Мне почему-то кажется, что Владимиром назвала своего первого в браке с Шатровым сына именно Евдокия. Назвала в память о том далёком, о том вообще самом-самом первом её сыне, о Владимире Первом — пусть и далёком, но не забытом.
Это были уже седьмые роды Евдокии Павловны, которой в середине февраля исполнилось уже 39 лет. Из шестерых детей, рождённых ею в браке с Иваном Шихобаловым, к моменту её второго замужества в живых оставалось лишь двое — Павел и Николай. И вот теперь к ним прибавился сын Владимир, «второй Владимир» Евдокии и первенец Ильи Шатрова.
А осенью следующего года в молодой семье Шатровых было уже 4 сына. Метрическая книга Троицкой церкви за 1911 год. Октябрь:
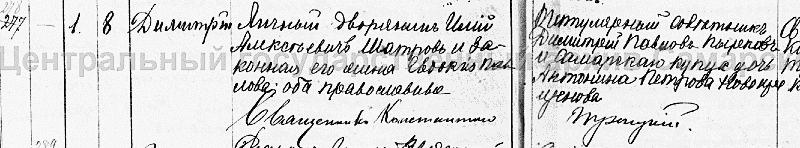 Запись о рождении Дмитрия Ильича Шатрова. Метрическая книга Троицкой церкви за октябрь 1911 года.
Запись о рождении Дмитрия Ильича Шатрова. Метрическая книга Троицкой церкви за октябрь 1911 года.
Центральный государственный архив Самарской области, ф. 32, оп. 33, д. 481 (листы 163об и 164)
Второй ребёнок Ильи Шатрова и Евдокии Шихобаловой, сын Димитрий, родился 1 октября 1911 года. Таким образом, за неполные полтора года Евдокия подарила своему молодому и талантливому мужу двух очаровательных малышей.
(Говоря в скобках: именно в этот период времени, по уверениям биографов Ильи Шатрова и коллективных авторов его Жития, композитор пребывал в глубочайшей депрессии, связанной, во-первых, со внезапной потерей им своей «возлюбленной» — или даже «горячо любимой» — Шурочки, а также с неприятностями по службе и тому подобными «бедами». Уверения эти, разумеется, нельзя принимать всерьёз, поскольку в рассказах биографов напрочь отсутствуют какие-либо упоминания о целом пласте жизни Ильи Шатрова в Самаре — о его семейной жизни. Конечно же, в действительности всё было совсем не так.)
Думается, 40-летняя Евдокия была тогда, в 1911 году, просто счастлива. Каких-то пять лет назад ей казалось, будто весь её мир рухнул, — и вот теперь к ней словно бы вновь вернулась молодость. Подобные же чувства, видимо, испытывал и Илья Шатров. После трудных детских лет, проведённых в захолустном Землянске, после долгих лет скитаний по углам и окопам он, наконец, зажил той полноценной семейной жизнью, в которой у него было всё, о чём ранее он мог только мечтать: и любящая жена, и дети, и, на первый взгляд, очень приличное положение в обществе — породнившись (через свою жену Евдокию) с влиятельными купеческими кланами Шихобаловых, Новокрещеновых, Неклютиных, он как-никак стал вхож в самую настоящую элиту купеческой Самары.
Новый, 1912-й год Илья Алексеевич встречал, вероятно, в кругу семьи и с хорошим настроением. Всё у него вроде бы получалось — и в личной жизни, и в сугубо деловых вопросах: как мы знаем, именно в 1910-м и в 1911-м годах ему удалось выиграть (быть может, не без финансовой и организационной поддержки супруги) судебные тяжбы, в которых он не только отстоял авторские права на свой знаменитый вальс (другой военный капельмейстер, некто С. В. Григорьев, обвинил Илью Шатрова в плагиате), но и успешно конвертировал эти права во вполне осязаемый и регулярный денежный доход…
В самом начале лета семью Шатровых постигло несчастье: супруги потеряли младшего своего сына Димитрия. Метрическая книга Троицкой церкви за 1912 год. Июнь, запись под номером 75:
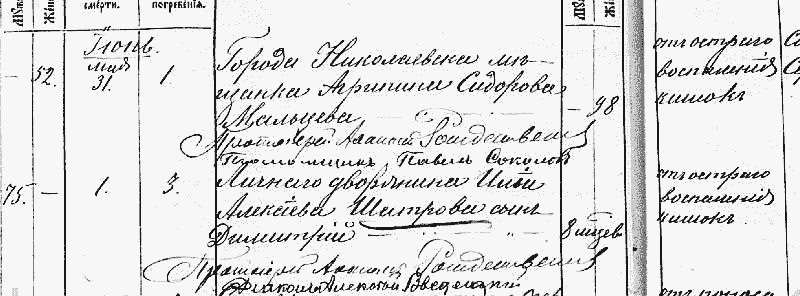 Запись о смерти Дмитрия Шатрова. Метрическая книга Троицкой церкви за июнь 1912 года.
Запись о смерти Дмитрия Шатрова. Метрическая книга Троицкой церкви за июнь 1912 года.
Центральный государственный архив Самарской области, ф. 32, оп. 33, д. 482 (листы 298об и 299)
Нежданная потеря восьмимесячного Димитрия (а умер мальчик, как здесь написано, «отъ остраго воспаленiя кишокъ» — обычное для того времени объяснение многих детских смертей) была, впрочем, не единственной причиной, по которой Илья Шатров едва ли мог считать ту свою трёхлетнюю полосу везения — совсем уж гладкой и безмятежной. Судя по всему, упомянутые выше влиятельные купеческие кланы отнюдь не торопились раскрывать свои объятия какому-то безродному капельмейстеру (и вовсе даже не исключено, что они приняли Илью Алексеевича за ловкого авантюриста, сумевшего где хитростью, а где и мужскими чарами вскружить голову этой несчастной дурочке Авдотье).
Чтобы в этом убедиться, достаточно бросить хотя бы беглый взгляд на «качественный состав» восприемников, присутствовавших при крещении детей Ильи Шатрова и Евдокии. Где Павел Иванович Шихобалов, владелец «дома с атлантами» на самой фешенебельной улице Самары (со странным для неё названием Заводская) — коллекционер произведений искусства, меценат и, между прочим, крёстный отец Павлика, старшего сына Евдокии?.. Где его брат Пётр Иванович, тоже купец 1-й гильдии и потомственный почётный гражданин — и, между прочим, крёстный отец Николая, второго сына Евдокии?.. Где, наконец, упоминаемая выше Елена Максимовна, «петербурженка», — крёстная мать и Павлика, и Николая?.. Или, там, Вера Лаврентьевна Шихобалова, ставшая когда-то крёстной матерью «первого Владимира»?..
Справедливости ради: при крещении «второго Владимира» представитель клана Шихобаловых всё же присутствовал — 16-летний Лаврентий, сын Павла Ивановича и Веры Лаврентьевны. Но случилось такое всего один-единственный раз — можно сказать, по инерции — и более никогда не повторялось: потом уже от Шихобаловых не было вообще никого.
Илья Шатров ворвался в жизнь «вдовы Е. П. Шихобаловой», когда её сыну Николаю было сравнительно немного лет — 8 или 9, а вот Павлику тогда исполнилось уже лет 13 или 14. В таком возрасте подростки далеко не всегда принимают новое замужество матери, и трудно было бы удивляться тому, что у Шатрова с его старшим пасынком изначально могли сложиться очень непростые отношения. И уж почти несомненно, что старшие Шихобаловы, братья покойного Ивана Ивановича, в своих попытках защитить его наследство от «безродного авантюриста» наверняка действовали бы именно через Павлика, которому в 1912 году исполнилось 17 лет: согласно закону, 17-летний юноша — правда, пока что с попечителем — мог уже заключать договора, подписывать деловые бумаги и прочее.
Опасения старших Шихобаловых, видимо, не были совсем уж безосновательными. Сошлюсь на дело, хранящееся в Российском государственном историческом архиве (ф. 1352, оп. 22, д. 702) среди бумаг Четвёртого департамента Сената — высшей апелляционной инстанции, в частности, по делам о продаже, залоге и перезалоге недвижимого имущества наследников и малолетних. Название архивного дела говорит само за себя: «О разрешении залога земли в Оренбургской губ., принадлежащей в части малолетним Павлу и Николаю Шихобаловым», 28 декабря 1911 года — 23 февраля 1912 года.
В этой связи показателен также и документ, обнаруженный Светланой Цапаевой, нашей читательницей из Самары. Это объявление, помещённое в двух подряд номерах (№№ 208 и 209) самарской газеты «Волжское слово» (соответственно, от 26-го и 28-го сентября 1912 года):
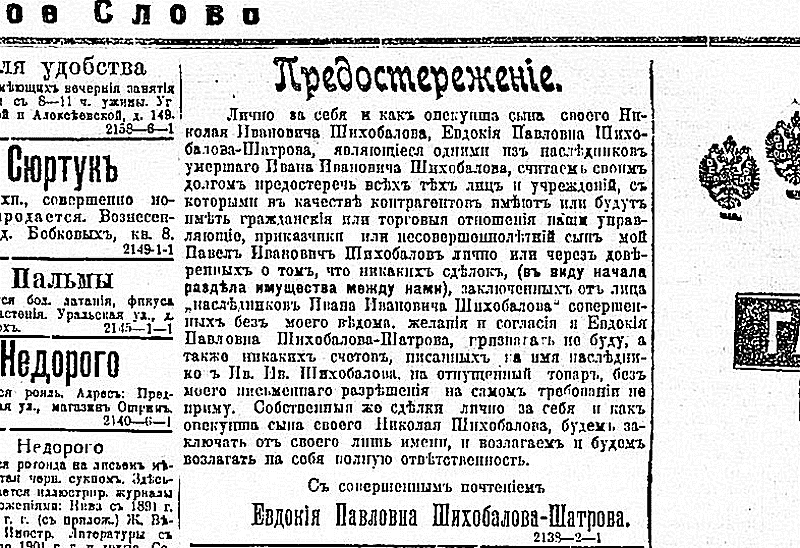 Объявление Евдокии Шихобаловой-Шатровой в № 208 газеты «Волжское слово» (26-го сентября 1912 года)
Объявление Евдокии Шихобаловой-Шатровой в № 208 газеты «Волжское слово» (26-го сентября 1912 года)
Евдокия, жена Ильи Шатрова, назвала своё объявление грозным словом «Предостережение»:
Лично за себя и как опекунша сына своего Николая Ивановича Шихобалова Евдокия Павловна Шихобалова-Шатрова, являющиеся одними из наследников умершего Ивана Ивановича Шихобалова, считаем своим долгом предостеречь всех тех лиц и учреждений, с которыми в качестве контрагентов имеют или будут иметь гражданские или торговые отношения наши управляющие, приказчики или несовершеннолетний сын мой Павел Иванович Шихобалов лично или через доверенных о том, что никаких сделок, (ввиду начала раздела имущества между нами), заключённых от лица «наследников Ивана Ивановича Шихобалова» совершённых без моего ведома, желания и согласия я Евдокия Павловна Шихобалова-Шатрова, признавать не буду, а также никаких счетов, писанных на имя наследников Ив. Ив. Шихобалова, на отпущенный товар, без моего письменного разрешения на самом требовании не приму. Собственные же сделки лично за себя и как опекунша сына своего Николая Шихобалова, будем заключать от своего лишь имени, и возлагаем и будем возлагать на себя полную ответственность.
С совершенным почтением
Евдокия Павловна Шихобалова-Шатрова
Вот так и написано, предельно холодно и официально: «С совершенным почтением»…
Из текста этого «Предостережения» следуют три очевидных вывода:
1) Отношения между Евдокией и её старшим сыном Павлом достигли к сентябрю 1912 года такого уровня, который иначе как «враждебный» назвать трудно. Евдокия дважды подчеркнула, что на одной стороне имущественного конфликта находится она сама (вместе со своим вторым сыном Николаем — тому ещё только 12 лет), тогда как на другой стороне — Павел, родной брат Николая, вместе с некими его «доверенными». Всем им предстоит «раздел имущества» — иной возможности разрешить конфликт между некогда близкими людьми стороны не видят.
2) Павлу Шихобалову всего лишь 17 лет. Невозможно представить себе, чтобы в столь юном возрасте он осмелился на открытое столкновение с родной матерью без прямой санкции своих влиятельных родственников — старших Шихобаловых.
3) Помимо Павла и Николая, у Евдокии есть ещё маленький сын Владимир и муж — Илья Шатров. И это ведь ради них она стала enfant terrible клана Шихобаловых, это ради них она рвёт многолетние родственные связи, рискуя даже потерять при этом старшего своего сына. Ради них. Вывод отсюда следует очень простой: вне всякого сомнения, она любит своего мужа…
Когда её грозное «Предостережение» появилось в печати, Евдокия, наверное, уже знала, что она — спустя всего-то 4 месяца после смерти Димитрия — снова беременна. Метрическая книга Троицкой церкви за 1913 год. Июнь:
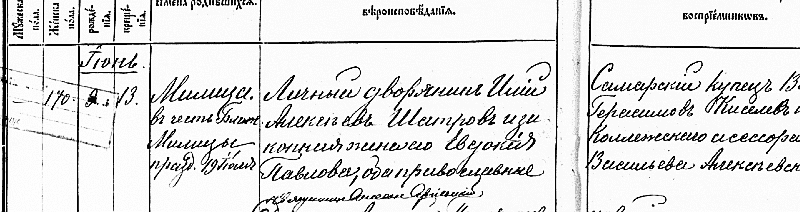 Запись о рождении Милицы Ильиничны Шатровой. Метрическая книга Троицкой церкви за июнь 1913 года.
Запись о рождении Милицы Ильиничны Шатровой. Метрическая книга Троицкой церкви за июнь 1913 года.
Центральный государственный архив Самарской области, ф. 32, оп. 33, д. 483 (листы 108об и 109)
Дочь Ильи Шатрова, которой родители дали имя Милица, появилась на свет 9 июня 1913 года. Её счастливой матери шёл тогда уже 43-й год, и это были её девятые — и, кажется, последние — роды…
«Землевладѣлецъ Илiй Алексѣевичъ Шатровъ»
В Центральным государственном архиве Самарской области хранится несколько документов, относящихся к интересующему нас периоду жизни Ильи Шатрова. Документы эти, в основном, не оцифрованы — другими словами, увидеть их можно только там, в Самаре (и лично мне, к примеру, они по этой причине не доступны). Но кое-что имеется и в дистанционном доступе.
…Старинная канцелярская папка, с большой надписью «Дѣло», с несколькими документами внутри. «Дело» это было заведено чиновниками Самарского губернского правления 5 марта 1913 года, и надпись на папке гласит: «По прошению землевладельца Ильи Алексеева Шатрова о разрешении постройки мельницы с нефтяным двигателем и турбиной на его хуторе Рычковском, Бугурусланского уезда». Первый же документ в деле — прошение за подписью Ильи Шатрова:
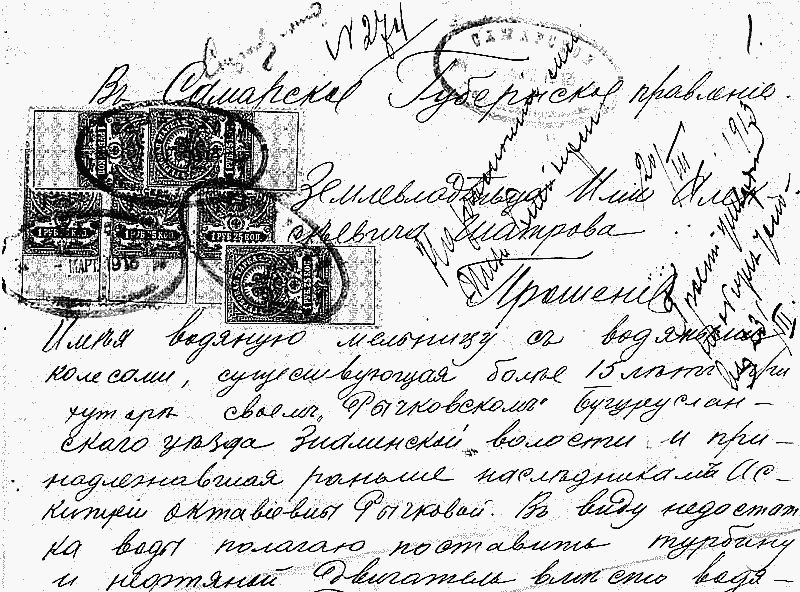 Прошение «землевладельца Илии Алексеевича Шатрова» в Самарское губернское правление. Март 1913 года.
Прошение «землевладельца Илии Алексеевича Шатрова» в Самарское губернское правление. Март 1913 года.
Центральный государственный архив Самарской области, ф. 1, оп. 12 том 2, д. 5099. Начало документа
Множество гербовых марок, каких-то пометок, резолюций, печатей, сквозь которые читаем слова, написанные сто лет назад:
В Самарское Губернское правление
Землевладельца Илии Алексеевича Шатрова
Прошение
Имея водяную мельницу с водяными колесами, существующая более 15 лет при хуторе своем «Рычковском» Бугурусланского уезда Знаменской волости и принадлежавшая раньше […]
Март 1913 года… Невольно вспоминаются чеканные строки из статьи в «Российской газете»: «Скоропостижно в совсем юном возрасте умерла горячо любимая Саша. Романтические надежды, светлые мечты о будущем рушились одна за другой. Трагическое душевное состояние композитора вылилось…» — и так далее. Во что-то, в общем, вылилось.
Март 1913 года… Жизнь отличается от жития, как поступки от деяний. Теперь мы знаем, что в марте 1913 года композитор Шатров предпочитал и называть, и считать себя землевладельцем и что «светлые мечты о будущем» были связаны у него далеко не с одной лишь романтикой.
«Романтическая мечта» заменить водяные колёса на нефтяной двигатель — и непременно с турбиной — появилась у Ильи Алексеевича ещё в 1912 году, если не раньше. Рождество и Новый год он встречал, конечно же, вместе с маленьким сыном (а Владимиру было тогда уже два с половиной года) и с беременной, на 4-м месяце, женой, но даже и в праздники не думать о делах он не мог: ведь сразу после них ему предстояло разыскать где-то полицейского пристава 3-го стана Бугурусланского уезда, чтобы выправить у него соответствующую бумагу:
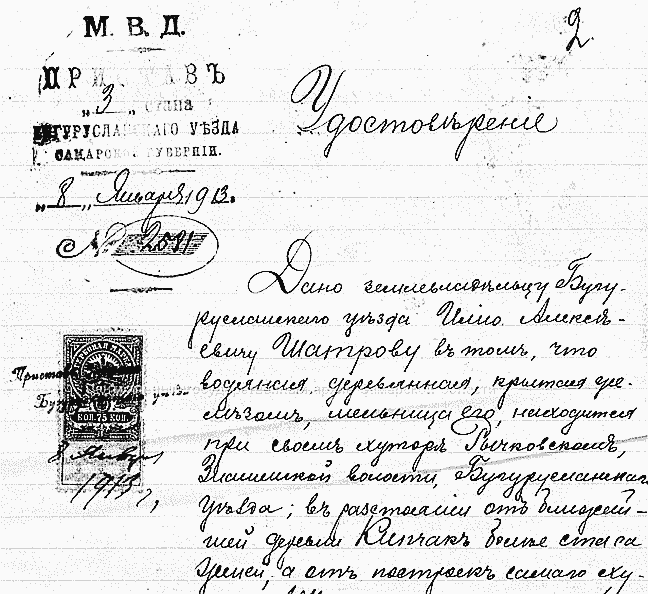 Удостоверение, выданное Илье Шатрову в полиции Бугурусланского уезда. Январь 1913 года.
Удостоверение, выданное Илье Шатрову в полиции Бугурусланского уезда. Январь 1913 года.
Центральный государственный архив Самарской области, ф. 1, оп. 12 том 2, д. 5099
Бумага эта, датированная 8 января 1913 года, была совершенно необходима для последующей подачи прошения: полицейский чиновник подтверждал в ней, что с формальной стороны в самой по себе идее землевладельца Шатрова какие-либо признаки пожароопасности не усматриваются:
Дано землевладельцу Бугурусланского уезда Илию Алексеевичу Шатрову в том, что водяная деревянная, крытая железом, мельница его находится при своем хуторе Рычковском, Знаменской волости, Бугурусланского уезда; в расстоянии от ближайшей деревни Кипчак более ста саженей […]
Да, но где же, собственно говоря, находился этот «хутор Рычковский», которым в 1913 году владел Илья Шатров и где у него имелась крытая железом водяная мельница? Разумеется, в официальной биографии Шатрова нет ни малейшего упоминания ни о каких хуторах и крытых железом мельницах композитора (впрочем, как и о его малолетних детях и беременных жёнах).
Каждый пользователь Интернета может легко найти и пролистать «Список населённых мест Самарской губернии», изданный в 1910 году, в котором скрупулёзно перечислены населённые пункты каждого уезда и каждой волости в пределах тогдашней Самарской губернии.
Есть там, разумеется, и Бугурусланский уезд (теперь это Бугурусланский район Оренбургской области), и Знаменская волость с центром в селе Знаменское-Аксаково (теперь, конечно, это уже не Знаменская волость, а Аксаковский сельсовет). Есть там и упомянутая приставом «ближайшая деревня Кипчак», расстояние до которой от Самары составляло 205 вёрст, от Бугуруслана 35 вёрст и от села Знаменское-Аксаково — 10 вёрст.
Да всё там есть: деревни и хутора, усадьбы и даже пчельники. Вот только хутора с названием «Рычковский» — там нет. Точнее сказать, нет лишь именно что самого названия. Это объяснимо: составители не только этого, но и многих других подобных справочников далеко не всегда оперативно отслеживали постоянно происходившую смену собственников, не имея к тому ни технических возможностей, ни, кажется, особого желания.
Как же нам найти в списке тот «хутор Рычковский», владельцем которого в 1913 году был Илья Шатров?.. Снова вчитываемся в текст его прошения:
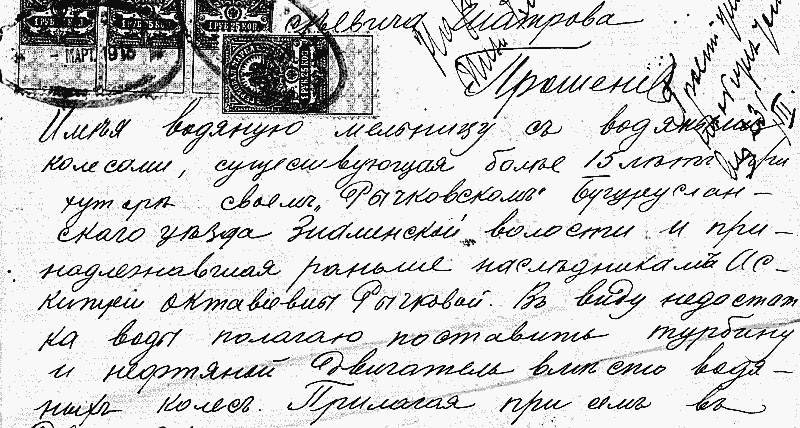 Прошение «землевладельца Илии Алексеевича Шатрова» в Самарское губернское правление. Март 1913 года.
Прошение «землевладельца Илии Алексеевича Шатрова» в Самарское губернское правление. Март 1913 года.
Центральный государственный архив Самарской области, ф. 1, оп. 12 том 2, д. 5099. Фрагмент документа
Теперь мы знаем, кому ранее принадлежала собственность Ильи Алексеевича Шатрова:
[…] Имея водяную мельницу с водяными колесами, существующая более 15 лет при хуторе своем «Рычковском» Бугурусланского уезда Знаменской волости и принадлежавшая раньше наследникам Аскитрии Октавиевны Рычковой. Ввиду недостатка воды полагаю поставить турбину и нефтяной двигатель вместо водяных колес. Прилагая при сем […]
Вообще, фамилия Рычковых оставила весьма заметный след в истории России — ещё со времён Екатерины Великой или даже императрицы Елизаветы Петровны (подробнее о Рычковых можно прочитать, например, в статье А. И. Ратникова «Дворянские династии и имения Дурасовых и Рычковых Клявлинского района Самарской области»). Родоначальником династии Рычковых был учёный, географ и историк, П. И. Рычков, «главный правитель оренбургских соляных дел». Его сын Андрей погиб в бою с войсками Емельяна Пугачёва. Внук Андрея, Иван, несколько лет был предводителем Бугурусланского дворянства.Один из сыновей Ивана, Леонид, возглавлял Бугурусланскую земскую управу. И вот именно у него-то, у Леонида Ивановича Рычкова, и была жена, которую звали Аскитрия Октавиевна…
Пресловутый «хутор Рычковский» землевладельца Ильи Шатрова должен удовлетворять сразу трём условиям: 1) иметь водяную мельницу, 2) ближайшим поселением к нему должна быть деревня Кипчак и 3) предыдущие права собственности на него должны быть связаны с именем Аскитрии Октавиевны Рычковой.
Снова открываем «Список населённых мест Самарской губернии». Бугурусланский уезд, Знаменская волость. Вот он, хутор Рычковский. Всем трём условиям сразу удовлетворяет лишь номер 2345 в списке — «Ус. дв. Л. И. Рычкова», в 11-ти верстах от села Знаменское-Аксаково:
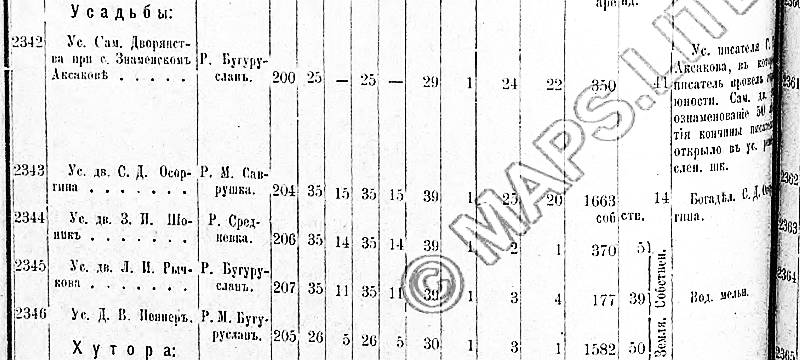 Фрагмент стр. 150 справочника «Список населённых мест Самарской губернии» 1910-го года издания
Фрагмент стр. 150 справочника «Список населённых мест Самарской губернии» 1910-го года издания
К 1913 году Леонида Ивановича Рычкова давно уже не было в живых, как не было в живых и Аскитрии Октавиевны Рычковой (Илья Шатров имел дело лишь с её наследниками), а в «Списке населённых мест Самарской губернии», под номером 2345, всё ещё указывалось: «Ус.<адебный> дв.<ор> Л. И. Рычкова».
Номер 2345, «Ус. дв. Л. И. Рычкова». Это и есть именно то, что мы ищем, — тот самый хутор Рычковский Ильи Шатрова. Расположенный менее чем в версте от деревни Кипчак, на реке Бугуруслан, и при нём 177 десятин «удобной» и 39 десятин «неудобной» земли («земля собственника», как указано в справочнике; десятина — это чуть более гектора), а также водяная мельница, где в 1913 году композитор планировал заменить колёса турбиной…
В самом конце прошения Ильи Шатрова есть и ещё одна любопытная подробность:
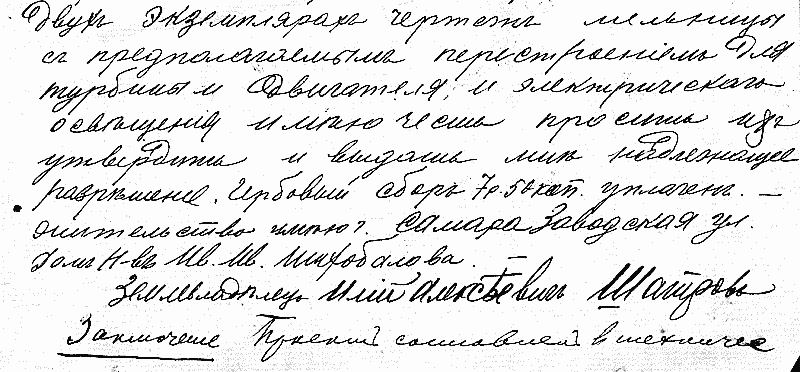 Прошение «землевладельца Илии Алексеевича Шатрова» в Самарское губернское правление. Март 1913 года.
Прошение «землевладельца Илии Алексеевича Шатрова» в Самарское губернское правление. Март 1913 года.
Центральный государственный архив Самарской области, ф. 1, оп. 12 том 2, д. 5099. Конец документа
Если раньше и могли быть какие-то сомнения в том, где именно в Самаре проживал в то время Илья Алексеевич Шатров, то теперь мы это точно знаем. Знаем от него самого:
[…] имею честь просить их утвердить и выдать мне надлежащее разрешение. Гербовый сбор 7 р. 50 коп. уплачен. Жительство имею г. Самара Заводская ул. дом н-в Ив. Ив. Шихобалова.
Землевладелец Илий Алексеевич Шатров
Разумеется, он жил тогда на фешенебельной Заводской улице, в «доме наследников Ивана Ивановича Шихобалова» — другими словами, в доме своей жены, вместе с её и своими детьми.
Была весна 1913 года, и всем им «хождения по мукам» только ещё предстояли…
Валентин Антонов, октябрь – ноябрь 2014 года
