(Окончание статьи. Перейти к предыдущей части)
Время и судьбы
Через год началась мировая война. Илья Шатров в ней не участвовал ни в каком качестве — иначе бы этот факт был непременно отражён его современными биографами. Ответ на то, как ему это удалось (ведь в 1914 году капельмейстеру-орденоносцу было всего-навсего 35 лет, и ни о каких серьёзных медицинских противопоказаниях к руководству военными оркестрами нам тоже ничего не известно), наверняка скрывается в самарских архивах.
В частности, в Центральном государственном архиве Самарской области (в дальнейших ссылках — ЦГАСО) хранится документ (или папка с документами), озаглавленный «О мельнице Шихобаловой-Шатровой» и относящийся к 1917 году (ЦГАСО, ф. 686, оп. 1, д. 143). Несмотря на своё «мирное» название, документ хранится среди бумаг Самарского уездного комитета по предоставлению отсрочек военнообязанным. Цифровых копий документа ещё нет, посмотреть его можно только в Самаре (а такой возможности у меня, к сожалению, тоже нет).
«Светлые мечты о будущем рушились одна за другой»… Да уж. В революцию купец Шатров потерял всё, что с таким трудом сумел накопить в предыдущие годы. Нельзя сомневаться в том, что революцию Илья Алексеевич встретил, мягко говоря, без энтузиазма.
В 1918 году Самара стала настоящим центром противостояния «белых» и «красных». Но свидетельств того, что Илья Шатров хоть каким-то образом участвовал в этом противостоянии (подобно, скажем, многим родственникам его жены Евдокии), тоже нет. Скорее всего, имея на руках семью, он просто выживал, стремясь приспособиться к условиям Гражданской войны.
Среди документов народного суда 2-го участка хранится дело под общим названием «Шатров Илья Алексеевич» (ЦГАСО, ф. Р220, оп. 2, д. 170), охватывающее период с 1917-го по 1922-й годы. Документы этого дела также доступны лишь в бумажном оригинале, поэтому о чём в них идёт речь, я сказать не могу.
 7 ноября 1918 года. Революционные войска в Самаре на улице Заводской. Да, на той самой Заводской улице:
7 ноября 1918 года. Революционные войска в Самаре на улице Заводской. Да, на той самой Заводской улице:
«Жительство имею г. Самара Заводская ул. дом н-в Ив. Ив. Шихобалова. Землевладелец Илий Шатров»…
Многие биографы Шатрова кратко, одной лишь фразой, упоминают о том, что в 1918 году Илья Алексеевич покинул Самару и отправился куда-то в Сибирь. Зачем он туда отправился и что он там делал почти до конца 1919 года, когда в Новониколаевске (ныне это Новосибирск) его свалил тиф, — неизвестно.
Зато теперь мы с вами можем абсолютно точно сказать, что свою семью — жену Евдокию и, как минимум, 8-летнего сына Владимира — Илья Шатров, отправляясь тогда в Сибирь, оставил в Самаре. Среди документов народного суда 3-го участка находится дело под названием «По иску Евдокии Павловны Шатровой к Михаилу Григорьевичу Балисинкову о 500 руб. по векселю» (ЦГАСО, ф. Р221, оп. 2, д. 103; электронной копии нет), относящееся именно к 1919 году.
В то время, когда Илья Шатров боролся с тифом, Новониколаевск (Новосибирск) на короткое время превратился в столицу Колчака. Когда Шатров выздоровел, в городе были уже «красные». И Шатрова немедленно мобилизовали, забрав на службу — в качестве военного капельмейстера — в одну из кавалерийских частей 5-й красной армии. К счастью, через год война закончилась, и он тут же вернулся в Самару. Почему именно в Самару, а не в родной Землянск, например?.. Теперь мы знаем, почему: в Самаре была его семья…
О том, как в те страшные годы выживали и сама Евдокия Шихобалова-Шатрова, и её дети, можно только догадываться. На помощь родственников ей едва ли приходилось рассчитывать: мы с вами знаем, что с ними её связывали не слишком дружеские отношения.
Три её племянника, дети её родной сестры Антонины, были офицерами (об этом в своих воспоминаниях «От Самары до Сиэттла» пишет Константин Неклютин, бывший министр в правительстве Колчака, который, начиная с 1896 года, некоторое время жил в семье Антонины и, разумеется, прекрасно знал также и Евдокию, и её детей). Ещё один племянник Евдокии Шатровой, старший сын её сестры, был убит большевиками в 1918 году.
Но это всё дети её сестры, а вот что можно сказать о собственных детях Евдокии Шатровой?
Павел Шихобалов
Старшему сыну Евдокии и старшему из двух пасынков Ильи Шатрова не совсем повезло, с точки зрения историков, с именем, отчеством и фамилией: они у него полностью совпадают с именем, отчеством и фамилией другого Павла Ивановича Шихобалова, его родного дяди по отцу (и, как мы уже знаем, его крёстного отца). Фигура этого «другого», гораздо более известного Павла Ивановича Шихобалова — неформального главы всего клана Шихобаловых, мецената, коллекционера картин выдающихся русских художников, приятеля В. И. Сурикова и так далее — без труда заслоняет собой «нашего» Павла Шихобалова, сына Евдокии Шатровой, который был ровно на четверть века моложе своего знаменитого дяди.
Их очень легко спутать. Вот, например, Константин Неклютин вспоминает, как в феврале 1916 года ему позвонил некий «Павел Шихобалов», и в течение часа они-де с «Павлом» заключили крупную сделку — на сумму более одного миллиона рублей.
О ком тут идёт речь? Кого 29-летний тогда Константин Неклютин фамильярно называл просто Павлом («Тогда Павел стал расспрашивать о…», «Следующий вопрос Павла касался…») — неужели владельца «дома с атлантами»?..
И почему спустя многие годы Неклютин точно припомнил не только год, но даже и месяц — не приблизительно, плюс-минус, а точно?.. Не потому ли, что он прекрасно знал, когда у его близкого родственника и почти ровесника каждый год случается день рождения?.. И не потому ли, что именно 1 февраля 1916 года «нашему» Павлу Шихобалову исполнился 21 год, так что никакие «попечители» в распоряжении имуществом ему уже не требовались?..
«Это была самая крупная сделка из тех, которые я проводил до сих пор», — вспоминает Неклютин. Возможно, что это была вообще первая крупная сделка ставшего «совсем взрослым» сына Евдокии Шатровой. Впрочем, спустя два года результаты сделки и для того, и для другого пошли прахом — и тот, и другой лишились всего…
Ещё один любопытный эпизод относится уже к середине 20-х годов. Екатерина Пешкова (Волжина), первая — а по документам единственно законная — жена Горького (кстати, гимназию она закончила в Самаре — как раз в тот год, когда родился «наш» Павел Шихобалов; в Самаре же она и познакомились со своим будущим знаменитым мужем), возглавляла тогда правозащитную организацию «Помощь политическим заключённым». Существует огромный архив, состоящий из писем, заявлений, просьб и т. п. заключённых и их родственников в адрес Екатерины Пешковой. Вот одно из таких писем, текст которого хорошо известен (Государственный архив Российской Федерации, ф. 8409. оп. 1, д. 81. листы 169 и 169об.):
Соловки, 22 июня 1925 г.
Глубокоуважаемая Екатерина Павловна! Находясь третий год в заключении по делу бывшего генерала Пепеляева и не имея ниоткуда никакой помощи, мы испытываем большую нужду во всем, в особенности в нижнем и верхнем белье. Зная Вашу отзывчивость к нуждающимся, мы осмеливаемся просить Вас помочь нам в нашей нужде чем возможно, за что заблаговременно приносим нашу Вам глубокую благодарность. Посылку благоволите адресовать так: Соловки, концлагерь, 8 рота, з/к Поливцеву Трофиму Григорьевичу.
Заключенные пепеляевцы Поливцев Т. Г., Кузьмин В. П., Усачев П. И., Шихобалов П. И., Ишмухаметов Б., Волегов Г. М.
Итак, «пепеляевцы». Анатолий Пепеляев, родной брат премьер-министра в правительстве Колчака, был одним из самых молодых белогвардейских генералов (Павел, сын Евдокии, всего на четыре года моложе его). С именем генерала Пепеляева связана самая последняя масштабная судорога Гражданской войны: антибольшевистский рейд добровольцев-«пепеляевцев» на Якутск, начавшийся летом-осенью 1922 года. В марте 1923 года «пепеляевцы» были разбиты и сдались на милость победителей. Сам Пепеляев получил 10 лет, отсидел и их, и ещё чуть-чуть, потом его даже освободили на некоторое время, но в начале 1938 года всё-таки расстреляли…
Так вот, вопрос: что за «Шихобалов П. И.» подписал письмо Екатерине Пешковой? Быть может, в рейд на Якутск отправился милейший Павел Иванович — коллекционер и меценат, приятель В. И. Сурикова?.. В 1922 году ему как раз исполнилось 52 года — славный возраст для отчаянного «пепеляевца», не правда ли?.. Или, быть может, тем «пепеляевцем» был его брат Пётр Иванович Шихобалов, годами чуть помоложе — в 1922 году Пётру Ивановичу (который тоже приходился родным дядей «нашему» Павлу) было всего-то 50?.. Вот, кстати, как он выглядел за 14 лет до якутского рейда генерала Пепеляева. Фрагмент фотографии 1908-го года:
 Это 1908 год. Пётр Иванович Шихобалов — стоит во втором ряду, в центре
Это 1908 год. Пётр Иванович Шихобалов — стоит во втором ряду, в центре
Шутки в сторону: не были старшие Шихобаловы на Соловках. И по всему выходит, что в июне 1925 года письмо Екатерине Пешковой подписал заключённый-пепеляевец Павел Шихобалов — старший сын Евдокии и пасынок Ильи Шатрова. Тот самый Павел Шихобалов, который вырос в семье Шатровых, но отношения которого с Ильёй Алексеевичем (да и с родной матерью) особой теплотой, вероятно, не отличались…
Что с ним произошло потом?..
Трудно ответить на этот вопрос наверняка. Кое-что, наверное, можно узнать из воспоминаний бывших заключённых, из архивных документов Соловецкого лагеря. Кое на какие размышления могут навести даже те метрические записи о рождении, которыми мы располагаем.
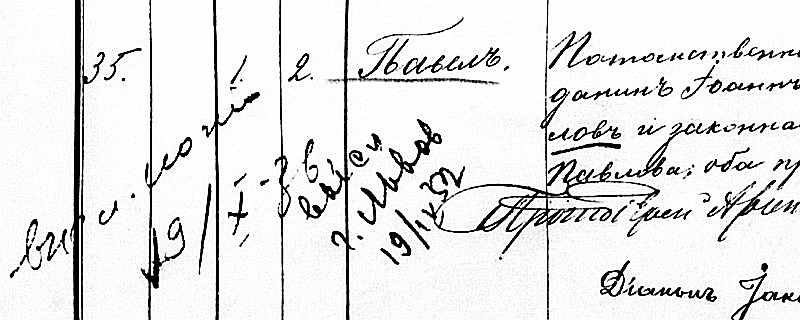
Вот фрагмент записи о рождении Павла Шихобалова. Запись номер 35 датирована февралём 1895 года: в годы Гражданской войны Павлу было менее 25 лет, а в июне 1925 года, когда было написано письмо, — ему уже исполнилось тридцать.
Слева от записи, чуть ниже, видны пометки, написанные другой рукой и гораздо позже: «высл. <почтой> 9 <или 19 ?> / X-36 г.» и «высл. г. Львов 19 / IV 52 <или 32 ?>». Из них следует, что копия этого «свидетельства о рождении» потребовалась потом дважды: в октябре 1936 года и в апреле 1952 года, когда она была выслана в город Львов (в последнем случае год выписан довольно небрежно, и речь может идти об апреле 1932 года — но это менее вероятно, поскольку в 1932 году Львов был ещё польским городом).
Всё это означает, что в указанные даты Павел Шихобалов был ещё жив (после смерти человека свидетельство о его рождении мало кого интересует), а также то, что тогда его не было в Самаре и что он имел какое-то отношение к городу Львову. Но это и всё, что мы можем сказать на основании одной лишь метрической записи. Никакие другие подробности дальнейшей жизни Павла Шихобалова, сына Евдокии и пасынка Ильи Шатрова, нам не известны…
Николай Шихобалов
Николай, второй пасынок Шатрова, был ровесником века: он родился 25 апреля 1900 года. В годы ожесточённых семейных войн за наследство его отца, Ивана Шихобалова, Николай, тогда ещё подросток, целиком зависел от своей матери и постоянно находился в семье Шатровых. В революцию ему только-только исполнилось 17 лет, так что никаким офицером он быть не мог. О его жизни в годы Гражданской войны ничего не известно — на этот счёт нет никаких прямых документов. Только и остаётся, что рассматривать метрическую запись о его рождении:
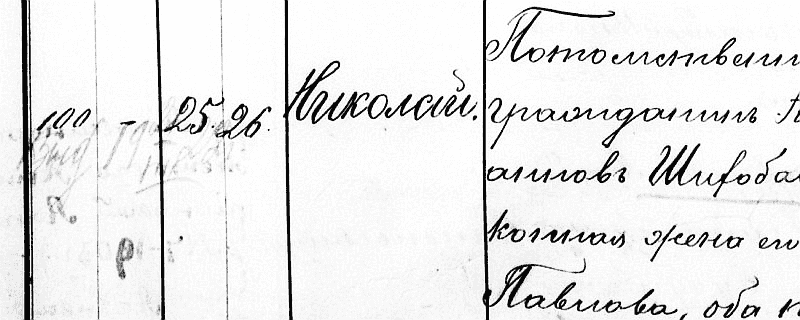
Запись под номером 100. Слабо различимые пометки налезают на саму запись, но разобрать кое-что, среди прочего, всё-таки можно: «Выд<ано> 19 27/III 22 г.». Скорее всего, это означает, что в марте 1922 года Николай Шихобалов был ещё жив, и находился он тогда в Самаре: копия записи о его рождении была не «выслана» куда-то, а «выдана» прямо в руки.
Март 1922 года — это на сегодня последняя дата, которая связана с Николаем Шихобаловым. По крайней мере, Гражданскую войну он пережил. О его дальнейшей судьбе ничего не известно.
Владимир Шатров
Владимир Ильич Шатров, первый сын Ильи Шатрова и его жены Евдокии, родился 6-го (по новому стилю 19-го) июля 1910 года. Вот фрагмент метрической записи о его рождении:
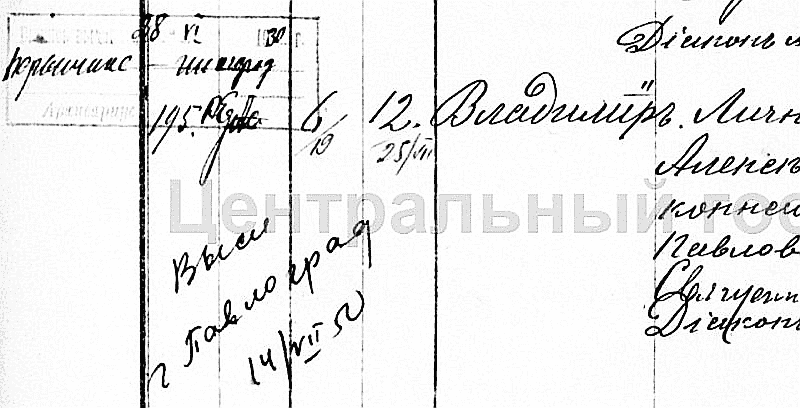
Стандартный штамп слева от записи под номером 195 говорит нам о том, что копия записи («первичное» свидетельство) о рождении Владимира Шатрова была выдана (или выслана — тут непонятно) 28 июня 1930 года. Ещё одна пометка, сделанная значительно позже, 14 июля 1950 года, гласит: «Высл<ано> г. Павлоград». Эти пометки означают, что и в 1930 году, и в 1950 году Владимир, сын Евдокии Шатровой, был ещё жив.
Позвольте-ка… Павлоград, город в Днепропетровской области?.. Из официальных биографий Ильи Шатрова мы знаем, что летом 1929 года композитор вместе со своей молодой женой Антониной Михайловной отправился именно в Павлоград, где его взяли в кавалерийский полк на должность капельмейстера по вольному найму. Так неужели?..
Да. Мы всё время знали о том, что Владимир Ильич Шатров пережил все войны и революции. Знали, когда читали упомянутую только что статью Александра Рябцова и разглядывали надпись на одной из помещённых в этой статье фотографий:
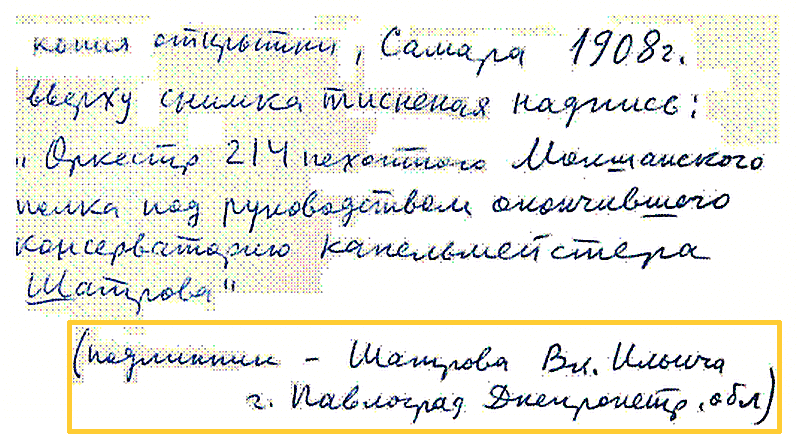 Фрагмент надписи на оборотной стороне фотографии, помещённой в статье
Фрагмент надписи на оборотной стороне фотографии, помещённой в статье
Александра Рябцова «К 135-летию со дня рождения Ильи Алексеевича Шатрова»
Знали и тогда, когда на сайте «Павлоградские новости» (в сентябре 2009 года) невнимательно читали следующую информацию:
В Павлограде почти всю свою жизнь по ул. Дзержинского, 50 прожил Владимир Ильич Шатров — сын Ильи Алексеевича (умер 20 ноября 1994 года.)
До сегодняшнего дня живут и здравствуют в нашем городе его дети, внуки знаменитого композитора: слесарь завода «ПМЗ», «Почётный донор СССР» Шатров Валентин Владимирович, пенсионерка Цыба Надежда Владимировна, пенсионерка Выхованец Нина Владимировна, работник Сбербанка Чёрная Вера Владимировна.
Да всё это мы знали. Мы просто не догадывались, что речь идёт о том самом Владимире Шатрове, потому что его матери, Евдокии Павловны Шатровой, — её в официальной биографии композитора словно бы не существует.
«В Павлограде почти всю свою жизнь прожил», — правильно писали о Владимире Шатрове в 2009 году. Но время не стоит на месте, и вот уже в июне 2013 года «первая газета Днепропетровской области», газета «Зоря», напишет о нём:
Капельмейстера [имеется в виду Илья Шатров — В. А.] многие знали в лицо, здесь родился, вырос и почти всю жизнь прожил его сын. Владимир Ильич Шатров умер 20 лет тому назад.
[…] Живут сегодня в Павлограде внуки знаменитого музыканта. Бережно хранят архивные документы, газетные и журнальные вырезки, фотографии и, конечно же, пластинки с музыкальными произведениями деда.
Нет, вовсе не в Павлограде родился Владимир Ильич Шатров… Он родился в Самаре. У него было четверо своих детей — Валентин, Надежда, Нина и Вера. Они бережно хранили и хранят архивные документы и пластинки с музыкальными произведениями своего знаменитого деда. А вот интересно, знали ли они, догадывались ли они о том, кто была их бабка?..
Милица Шатрова
Родная сестра Владимира, Милица, родилась 9 июня 1913 года. О ней, о её судьбе вообще ничего не известно. В 1918 году, в самый голод и разруху, ей должно было исполниться 5 лет. Но исполнилось ли? Смогла ли Евдокия Шатрова уберечь, защитить свою маленькую дочь в годы Гражданской войны, хотя бы до возвращения её отца из долгих сибирских странствий?..
Снова смотрим на фрагмент метрической записи о рождении Милицы. Запись за номером 170:
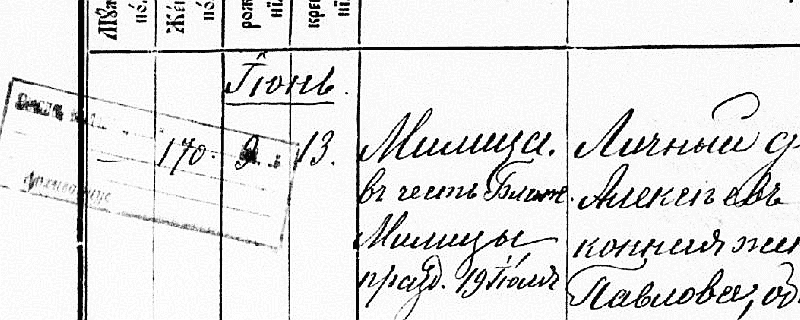
Слева проставлен стандартный, уже советских времён, штамп, который ставился тогда, когда требовалось подготовить копию метрической записи. Точно такой же штамп был проставлен и заполнен в 1930 году для Владимира Шатрова, брата Милицы. Но вот в её случае штамп остался пустым, незаполненным.
Словно кто-то хотел подтвердить нам, что она жива, да в последний момент — передумал…
«Самарское» двадцатилетие
Без сомнения, даже те документы, о которых мы точно знаем, что они хранятся сегодня в архивах, позволили бы дать ответ на многие вопросы.
В 1921 году Евдокии Шатровой исполнилось 50 лет. Как жила она все те годы, где и как закончилась её жизнь? По-видимому, Гражданскую войну она всё-таки пережила: пока её муж, Илья Шатров, боролся с тифом в Новониколаевске, а потом, где-то в Сибири, звуками революционных маршей воодушевлял бойцов 5-й красной армии, кто-то ведь должен был кормить-поить-одевать 10-летнего Владимира Шатрова (ладно, не будем пока говорить о совсем маленькой Милице)?..
С другой стороны, невозможно ведь поверить, что, уехав в с отцом и с его новой женой в Павлоград, 19-летний Владимир Шатров мог оставить свою немолодую уже мать в Самаре. Скорее всего, Евдокия Шатрова, та самая «вдова Е. П. Шихобалова» из официальной биографии, умерла где-то в середине 20-х годов.
Более подробные и более определённые сведения о её судьбе можно, вероятно, найти как в перечисленных выше документах, находящихся в Самаре, в Центральном госархиве Самарской области, так и в других — тоже пока что не оцифрованных — архивных делах, речи о которых здесь ещё не было (ну, просто для примера: дело под названием «Шихобалова Евдокия» хранится среди документов народного суда 2-го участка г. Самары и охватывает период с января 1917 года по декабрь 1922 года — ЦГАСО, ф. Р220, оп. 7, д. 289).
Вернувшись к жене и сыну после долгих странствий по Сибири, Илья Шатров, как упоминают биографы, вёл в Самаре скромную и незаметную жизнь «преподавателя музыки». Впрочем, если судить не по официальным биографиям, а по документам, то назвать эту его самарскую жизнь в 20-е годы такой уж совсем-совсем незаметной — дело довольно трудное. Сохранилось архивное дело (к сожалению, в электронном виде и оно тоже пока недоступно), которое проходит по бумагам Самарского губернского земельного управления и называется так: «Дело по выселению из пределов Самарской губернии Шатрова Илью Алексеевича» (ЦГАСО, ф. Р644, оп. 4, д. 51). Дело по выселению композитора Шатрова из пределов губернии охватывает период времени с 11 ноября 1925 года по 25 сентября 1926 года.
Подобного рода меры, насколько мне известно, особенно широко практиковались несколько позже середины 20-х годов, уже в ходе массовых «раскулачиваний», то есть, по сути, репрессий, применявшихся в административном порядке по политическим и социальным соображениям. Почему в 1925 году встал вдруг ребром вопрос о «раскулачивании» скромного преподавателя музыки из Самары — так сразу сказать нелегко… Не исключено, впрочем, что между открытием в ноябре 1925 года «Дела по выселению» Ильи Алексеевича и июньским того же года письмом «пепеляевца» Павла Шихобалова, пасынка Шатрова, нет абсолютно никакой связи.
Создание семьи
«Создание семьи» — этот подзаголовок позаимствован из очень обстоятельной (и уже много раз тут упомянутой) биографической статьи Александра Рябцова «К 135-летию со дня рождения Ильи Алексеевича Шатрова». Подзаголовок «Создание семьи» предпослан там следующему, не слишком большому, тексту (фрагмент его был процитирован выше, теперь же приведу этот текст полностью):
После окончания гражданской войны Шатров возвратился в Самару и до лета 1929 г. он работал преподавателем музыки.
В это время в Самаре он встретился с Тоней Кузнецовой, которая в прошлом была подругой Шуры Шихобаловой. Через некоторое время Илья Алексеевич и Антонина Михайловна решили расписаться и создали семью. Гражданская жизнь захватила И. Шатрова. Днём преподавал в учебном заведении музыку, а потом спешил в заводской клуб. По вечерам дирижировал любительским оркестром. Время летело…
«Создание семьи» — обычному читателю, который не слишком искушён в особенностях канонических текстов, но всё ещё следит за датами, вполне может показаться, что до 50 лет композитор Шатров так и прожил бобылём: без семьи, без детей, без ничего. Видимо, хранил верность Шуре Шихобаловой… Ни о Евдокии Шатровой, ни об их с Ильёй Алексеевичем детях, ни о многих годах их семейной жизни, полной надежд, разочарований и потерь, — ни о чём этом в обширных статьях биографов нет ни единого слова.
Вообще-то, когда «Тоня Кузнецова, которая в прошлом была подругой Шуры Шихобаловой», стала женой композитора Шатрова, она ведь тоже была далеко не юной девочкой: в 1929 году ей исполнилось уже 40 лет. И, конечно же, мы ничего не знаем о том, как она прожила все эти годы. То есть, вообще ничего…
Несколько слов, наверное, нужно сказать и о «Шуре Шихобаловой». Точнее, о красивой легенде, созданной вокруг этого имени. Думается, истоки столь популярной среди биографов романтической легенды о великой взаимной любви композитора Шатрова и безвременно ушедшей из жизни юной гимназистки (ещё один подзаголовок из статьи Рябцова, как раз об этой истории, гласит: «Недолгое счастье влюблённых»), — так вот, истоки этой легенды следует искать примерно тогда же, во времена второй женитьбы Ильи Шатрова. Всего несколько красивых фраз в биографии легко подменили собой два десятка лет, счастливых и несчастных лет, говорить о которых, вспоминать которые — никому не хотелось…
«Самарское» двадцатилетие Ильи Шатрова закончилось в 1929 году, когда 50-летний композитор переехал в Павлоград. С отъездом из Самары завершился период, в который Шатров когда-то вступил совсем молодым человеком, полным сил и самых радужных надежд на будущее. На будущее, в котором не было места ни военным оркестрам, ни серебряным трубам, ни казённым квартирам, ни удушающей бедности.
Двадцать лет промелькнули для него, словно на счёт «два». Двадцать лет жизни, втиснутые в две безликие и пустые строчки Жития. Двадцать лет, которые Илье Шатрову хотелось забыть, как кошмарный сон. Самарские «дачные грёзы»…
«Дачные грёзы» — это единственный самарский вальс Шатрова. «Дачные грёзы» 1908 года:
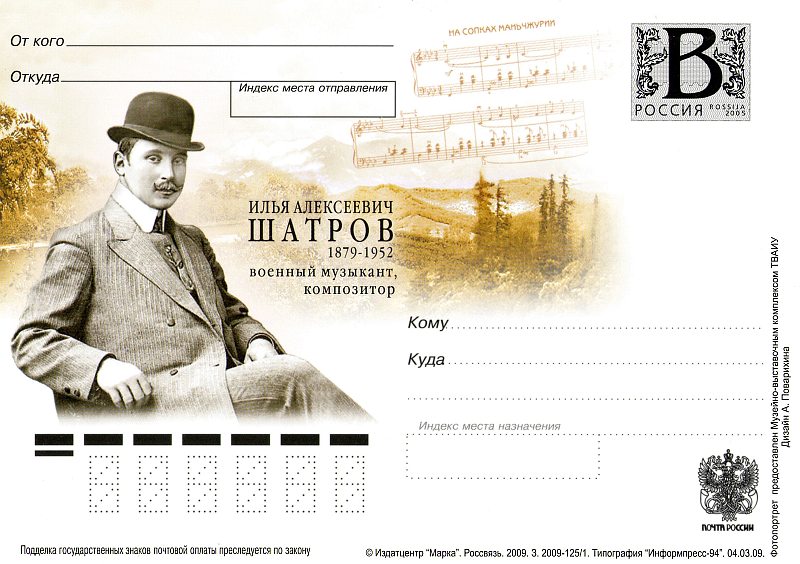 «Дачные грёзы» — вальс военного музыканта и композитора Ильи Алексеевича Шатрова
«Дачные грёзы» — вальс военного музыканта и композитора Ильи Алексеевича ШатроваЦепочка в долгих двадцать лет, разорванная революцией напополам… 50-летний Илья Шатров покидал Самару, чтобы никогда не возвращаться в этот город, где оставались могилы некогда близких ему людей, но где его никто теперь не ждал и ничто уже больше не удерживало…
Валентин Антонов, октябрь – ноябрь 2014 года
