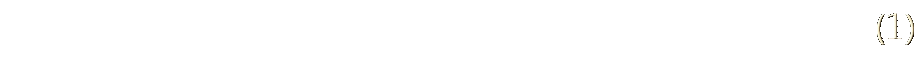Постоянные читатели «Солнечного ветра» без особого труда вспомнят, что они уже встречали в нашем журнале это имя — Михаил Шнайдер. Ровно три года назад все мы с удовольствием познакомились с коротенькими литературными зарисовками этого уже очень немолодого человека, талантливого и тонко чувствующего, который и в свои преклонные годы остаётся всё тем же «фантазёром и мечтателем».
И вот теперь новая встреча: автобиографический роман (публикуемый, естественно, в несколько сокращённом, так сказать, «журнальном» варианте) под авторским названием «Фантомная любовь» (аллюзия на медицинский термин «фантомная боль» — когда, например, уже ампутированная нога всё ещё продолжает ощущаться и причинять боль).
В подзаголовке указано: «Роман-исповедь». А исповедь — она ведь нужна, прежде всего, кому? Да тому и нужна, кто исповедуется, припоминая вдруг всю свою жизнь, со всеми её заблуждениями, ошибками, болезненными падениями и ослепительными взлётами: «Интересное психологическое наблюдение. После того, как я написал роман, я успокоился. Причём, мне неважно было, прочитает ли кто-нибудь написанное…»
Ему-то, разумеется, неважно. Но, быть может, это окажется «важным» для других?..
В оформлении заголовка использован фрагмент картины Василия Кандинского «Ночь».
Валентин Антонов
Фантомная любовь
Позвонил сын:
— Папа, — сказал он, — мама умерла.
Я молчал, не зная, что сказать. После паузы он добавил, опережая мои вопросы:
— Мама просила, чтобы ты не приезжал. Она хотела, чтобы ты помнил её молодой, такой, какой она была, когда вы расстались.
* * *
Я помню время, когда она ещё бегала по двору в одних трусиках. В моём понимании она отличалась от других девочек. Она хорошо училась, имела второй разряд по художественной гимнастике, увлекалась планеризмом, писала стихи. В общем, она мне нравилась всё больше и больше. Во время игр я старался как-то с ней общаться. Например, играя в волейбол, я старался передавать мяч ей. Не знаю, как так получилось, но в девятом классе я уже знал, что люблю её. По-моему, Наташа, так звали мою будущую жену, чувствовала это, да и все остальные тоже. Мы общались всё чаще и чаще.
Все последующие несколько лет прошли у меня, как во сне. Я всё видел и слышал, но не воспринимал жизнь реально. Во мне была только моя любовь, которая всё застилала. Под воздействием этой любви я влюблялся во всех девочек. Вначале я старался избегать встреч с теми, в кого влюблялся, но потом понял, что при повторных встречах я уже видел всё совсем по-другому. Сначала я пугался очередной влюблённости, но потом относился уже к ней, как к болезни, которая быстро проходит.
Мы на пляже. Наташа загорает, лёжа на спине. По радио передают модную в то время песенку:
Мишка, Мишка, где твоя улыбка, Полная задора и огня? Самая нелепая ошибка, Мишка, То, что ты уходишь от меня.
Через несколько лет я буду вспоминать эту песенку, как пророческую. А сейчас я смотрю на фигурку Наташи, и сердце моё переполняется нежностью и любовью.
Прошёл десятый класс, все начали поступать в институты. Моя сестра Мара уже оканчивала политехнический. Я хорошо чертил и помогал ей чертить дипломный проект. Я, вообще, любил технику, поэтому уже знал, что буду поступать только в политехнический. Мы уже знали, что из-за антисемитизма поступать в Одессе очень трудно. Поэтому Наташа решила ехать в Кишинёв и поступать там. Правда, и там она не поступила. Мне же никакой другой институт не нужен был. В институт я тоже не поступил. По сочинению я получил тройку, и из-за этого мне не хватило одного балла. Говорили, что это был такой приём, чтобы не пропустить, кого не надо. Ведь по сочинению можно поставить любую оценку и всегда обосновать её.
Я начал искать работу, но меня соглашались принять, если будет справка, что мне дают отсрочку от армии. Я пошёл в военкомат, и мне сразу вручили повестку. Провожать пришла мама и Наташа. Уехал я, так и не объяснившись. Да и не надо было что-то объяснять. Всё было понятно без слов.
* * *
Здравствуй, Наташа!
Сегодня я первый раз был в наряде на кухне. Работаем ночью, так как на утро нужно приготовить завтрак. Моем посуду, чистим картошку.
[…]
На кухне жарко, всё варится в больших котлах. Их потом надо мыть, что тоже не легко. В общем, бессонная ночь, тяжёлая работа и жара выматывают довольно прилично.
Ну, пока. Скоро отбой.
Миша.
Здравствуй, Наташа!
Только что получил твое письмо.
[…]
Как бы я хотел быть сейчас в Одессе! Только от одной мысли, что буду в Одессе в лучшем случае через год, становится так тоскливо, что хочется почему-то забиться куда-нибудь в угол. Такое настроение у меня бывало летом в прошлом году на даче. Только с той разницей, что там я и в самом деле лежал целый день на тахте, уткнув лицо в подушку, а здесь я должен поскорее разогнать такое настроение.
Я тебе всегда пишу, что настроение у меня хорошее, потому что в среднем оно действительно хорошее, т. е. нормальное.
Ты знаешь, я так «вошел» в письмо, что мне кажется, что мы с тобой беседуем. Видишь, я даже забыл, что это письмо, и нарисовал что-то.
[…]
Ну, а пока до завтра.
Миша.
Здравствуй, Наташа!
Сегодня мы вернулись с учений. Со мной произошёл случай, когда мне пришлось проявить не свойственные пока ещё мне решительность и твёрдость.
[…]
Иногда сам не знаешь, на что ты способен в определённой ситуации.
Миша.
Здравствуй, Наташа!
У тебя сегодня день рождения? Поздравляю тебя. Правда, несколько поздновато (читаешь письмо ты числа 28). В этом я сам виноват: понадеялся, что успею послать телеграмму, но, оказывается, чтобы послать телеграмму, нужно пойти на почту в город. Ну, а пока меня отпустили, было уже поздно. (Кстати, о том, что ты родилась 23 февраля, мне догадалась сообщить Лида. Она вообще слишком догадливая!)
[…]
Ты советуешь мне, чтобы я меньше писал писем из-за недостатка времени. Если мне нужно будет время, то я буду сокращать корреспонденцию, но только не с тобой. Понимаешь? Так что лучше уж не давай таких советов. Наоборот, я думаю писать тебе чаще.
Пока кончаю. Иду спать. До свидания!
Миша.
Здравствуй, Наташа!
Только что получил твоё письмо, хотя ожидал его вчера (это почта балуется).
[…]
Ты пишешь, что на фотокарточке выражение лица — совсем не моё. Понимаешь, я не настолько изменился, чтобы изменилось выражение лица; просто, когда меня фотографировали, я смотрел в объектив и думал примерно так: «Видишь, Наташа, какой я? Ты, пожалуй, не узнаешь меня в военной форме». Поэтому и выражение лица стало такое же, вот и всё.
«Ну, всё. С карточкой покончено. Перейдём к следующему.» (Это твои слова.) А ты знаешь, писать письма и в самом деле легче. Ты знаешь почему? Потому что, когда я с тобой разговаривал, я терялся и не знал о чём говорить. Приходилось придумывать тему или, что легче всего, просто не говорить. А тогда, когда мне нужно было тебе что-нибудь сказать, я говорил это, например, Вове, но так, чтобы ты слышала. И часто получалось, что я говорил Вове или кому-нибудь другому для тебя, понимаешь? Но теперь, мне кажется, я бы смог с тобой говорить примерно так же, как переписываться.
[…]
Миша.
Здравствуй, Наташа!
Вчера получил твоё письмо и как раз вовремя. Вообще, твои письма приходят тогда, когда они мне особенно нужны. Вчера у меня были некоторые неприятности, да кроме того, вечером мы должны были пойти на кухню (помогать чистить картошку), так что настроение было неважное, — и как раз в это время пришло твоё письмо.
[…]
…Ты знаешь, сегодня мне, кажется, не суждено окончить это письмо. Я уже два раза отрывался: то на ужин, то подготовить кое-что к учениям, а теперь нужно уже строиться на отбой.
Так что до следующего письма, а оно будет примерно в воскресенье (я имею в виду то, что я его напишу в воскресенье), так как пару дней я не буду иметь возможности не только писать, но и получать писем.
Так значит, до следующего письма.
Миша.
Здравствуй, Наташа!
Ты знаешь, почему я тебе так долго не отвечал? Мы были на учении, выезжали в поле на пару суток. У нас здесь довольно холодно, сильный ветер, снег да ещё поле. Сама можешь себе представить наше положение. Если постоишь минут десять в поле, замёрзнешь до самых печёнок, а ветер — кажется, продувает насквозь.
[…]
Ну, кончаю. И так накатал 8 страниц. До следующего письма!
Миша.
Передавай привет ребятам.
Здравствуй, Наташа!
У меня всегда так бывает: сначала никто не пишет, а потом несколько писем. Поэтому изо дня в день жду почту с нетерпением, но за целый месяц получил всего два письма и все от тебя.
[…]
Ребята говорят, что труднее всего служить первые несколько месяцев и последние. И хоть последние месяцы пойдут очень медленно, я хочу, чтобы они пришли скорее.
Ты права, я не помнил, что танцевал с тобой последний раз, не помнил я и то, что «Метро» первый раз танцевал с тобой. Но я помню другое: помню Лидины именины, будто они были только вчера. Помню, как я хотел с тобой потанцевать и как мне всё время не удавалось. И когда я, наконец, решился и предложил тебе потанцевать, ты сказала, что устала уже. У меня тогда всё настроение испортилось, хотелось уйти, а я должен был танцевать с этой…, как её звали я уже забыл. (Она занималась спортивной гимнастикой. Её звали, кажется, Ада). А она, как назло, всё время меня приглашала, и неудобно было отказаться. Ставили очень часто «Рио-Риту», весёлую пластинку, а мне совсем не было весело. Помню, как ты, после приезда из Кишинева, с Аликом зашла к нам. У нас ставили пластинки, все были в сборе. Алик бесцеремонно подсадил тебя и сам влез в окно. Мне хотелось видеть и говорить только с тобой, а тут какой-то Алик, от которого все в восторге, говорит, что пора уходить куда-то и вместе с тобой уходит. Как мне тогда хотелось быть на его месте! В общем, каждый помнит то, что его больше всего волновало. Я вспомнил, как я каждый раз, когда была консультация (в другое время я бы не нашёл причины), приезжал из Люстдорфа в Одессу в надежде, что увижу тебя. Мне тогда приходилось делать вид, что я случайно опаздываю на консультации. (А мне было очень противно обманывать, но другого выхода не было). Фимка всё время надоедал тебе. Я ему тогда до того хотел в морду дать, что всё время искал какой-нибудь причины. Все бы обратили внимание, а мне этого не хотелось.
В общем, всё! Больше не могу и слова написать.
Спешу! Мы заступаем в караул. Уже стоит наряд.
Миша.
Здравствуй, Наташа!
Сегодня получил твоё письмо. Оно меня одновременно и обрадовало, и испортило и без того плохое настроение. Не думай что-нибудь плохое. Просто письмо напомнило мне о том, как мне хочется в Одессу, — и от сознания, что, может быть, ещё не скоро я уеду отсюда, мне стало не по себе. Мне действительно нужно быть в Одессе. Обо всём бы поговорили, всё выяснили бы. В письме ни черта не выскажешь. И так, даже в разговоре, очень трудно будет разобраться во всём, а в письме просто невозможно. Ведь столько изменилось за эти полтора года! Изменились и отношения наши. Раньше я даже думать боялся то, о чём я сейчас пишу. Да и ты, наверное, наконец разобралась уже в своих чувствах. О себе я говорить не буду. Ведь ты о моих чувствах, наверное, догадывалась ещё до того, как я уехал. В общем, этот разговор лучше оставим до моего приезда. Всё равно в письме ничего не скажешь.
[…]
Между прочим, напрасно ты думаешь, что я тебя не знаю. Я вообще быстро разбираюсь в людях, а тебя как-никак знаю ещё с детства. Кроме того, к тебе я больше присматривался в последнее время, нежели к другим. Так что — тебя я знаю. Я, может быть, не знаю твои привычки, твой вкус, наклонности к музыке или что-нибудь в этом роде, но характер-то хорошо знаю! Ты говоришь, что ты самолюбивая, гордая и т. д. Я знал это и поэтому боялся, как бы ты из-за ложной гордости что-нибудь не натворила.
[…]
Почему ты считаешь, что мне трудно читать твои письма? Я, например, их легче читаю, чем свои собственные. Серьёзно! Так что продолжай писать в том же духе.
Наташа, может быть, месяц или даже больше я не смогу получать письма. Тебе писать я смогу, но получать ничего не буду. Так что не пиши, пока не скажу. Ты даже не представляешь, как мне горько будет столько времени ничего от тебя не получать. Ну, я ещё напишу не раз.
Если будешь всё же писать, Сашка сохранит твои письма.
Миша.
Здравствуй, Наташа!
Хочу покаяться. Я впервые в жизни убил живое существо. Это был суслик. На прошедших учениях мы сидели в окопах, изображая оборону. Довольно далеко от окопа я заметил суслика. Во мне проснулся охотник. Я взял камень, бросил и, естественно, не попал. Тогда я заготовил камень покруглее и стал ждать. Вскоре суслик опять появился. Я опять бросил, и мне показалось, что я попал. Я пошёл посмотреть, и точно: возле норки лежал несчастный зверёк с окровавленной головкой. Мне стало плохо то ли от жалости, то ли от угрызений совести. Я никому не рассказал о своём «подвиге», переживал сам. Теперь у меня перед глазами окровавленное тельце суслика. Если убить маленького зверька так тяжело, каково же убить крупное животное или человека?
Миша.
В учебном батальоне, где я служил, был образцовый порядок и жёсткая дисциплина. Старшина нашей роты был сверхсрочником. Судя по медалям, он, вероятно, участвовал ещё в войне. Приходил он вечером в казарму в идеально чистой и отглаженной форме, хорошо выпившим и «воспитывал» провинившихся. Тренировал нас быстро раздеваться перед сном. Были даже определённые нормативы. Помню, я раздевался за сорок пять секунд при нормативе, кажется, в минуту. Это был очень хороший показатель. Потом эти дурацкие нормативы справедливо отменили. Оставили нормативы только для подъёма по тревоге.
[…]
Здравствуй, Наташа!
Не хотел тебя пугать, но всё же напишу. Ещё бы немного, и моя жизнь закончилась. А я так мечтаю с тобой встретиться! В мечтах строю всякие планы. Хотелось бы, чтобы хотя бы часть планов осуществилась. Тогда и умереть не страшно.
Дело было так. Мы чистили оружие, и один придурок, который чистил свой пистолет рядом, шутя направил на меня пистолет.
— Нельзя же направлять оружие на человека, — говорю.
А он говорит, что пистолет не заряжен, направляет его в потолок, и тут выстрел. Представляешь? Он даже больше испугался, чем я. Сбежались ребята и начальство. Я, естественно, ничего не рассказал.
Миша.
[…]
Во время одного из учений на нас должен был наступать танковый полк. В расположении нашей обороны разместили мишени, и полк должен был стрелять по ним боевыми снарядами. За два часа до начала наступления мы спешно начали уходить в сторону, в лесок. Помню, как командир батальона нервничал из-за нашей медлительности и нерасторопности. Обычно сдержанный, он не стеснялся в выражениях, гоняя наших командиров. Командир батальона на джипе объезжал наши позиции, рядом с ним сидел радист, который всё время был на связи с наступающим полком.
Потом из леса я наблюдал за началом наступления. Перед нами вроде бы никого не было, только голая степь до горизонта. И вдруг из-под земли появились танки. Они шли мимо нас на позиции, которые мы оставили совсем недавно, и стреляли. На секунду мне показалось, что это настоящая война, и в животе у меня стало холодно. Я почувствовал, как бывает страшно на войне. На тебя движутся железные махины, несущие смерть, их не остановишь, от них не спрячешься и не убежишь.
[…]
Здравствуй, Наташа!
Только вчера возвратился с учений. Пришлось побывать и в Ростове, и в Краснодаре, и во многих других местах. В общем, к этому вопросу я ещё вернусь в конце письма. Сейчас нет просто терпения: хочется рассказать о твоей фотографии. Понимаешь, я написал всем, чтобы не писали, и был в полной уверенности, что мне ничего не пришло. Но на всякий случай спросил, было ли мне что-нибудь, заранее зная ответ. И вдруг говорят, что было письмо или даже два от какой-то девочки. Ты представляешь мою радость? Спрашиваю где, но никто толком не знает — сами, мол, уезжали куда-то и не знаем. Я каждого спрашивал, и никто ничего толком не знает. Начал искать в палатке и нашёл твоё второе письмо, в котором ты сообщаешь, что в предыдущем письме выслала фотографию. Спрашиваю, где первое письмо, с фотографией. Говорят, что, правда, было письмо с фотографией — мы, мол, даже смотрели фотографию, очень хорошая фотография, на коричневой бумаге, только где она — не знаем. Я просто чуть не рассвирепел. Готов был буквально поубивать всех, и Сашку в том числе. Хорошо, что его не было. У меня всё ещё была надежда, что он взял. Приехал Сашка только вечером (а я весь день только о фотографии и думал) и сообщил, что о письме с фотографией даже не слыхал. Я просто не знал, что делать. Ведь я так ждал этой фотографии — и вдруг так вот просто потерять, даже не посмотрев на неё.
[…]
На другой день встал с мыслью о той же фотографии. Решил не спрашивать, а просто перерыть обе палатки. Если бы нужно было перерыть палатки всего полка, я бы даже не задумался и пораскидал бы всё. В общем, в одной палатке ничего не нашёл, хотя просматривал каждую книгу, каждый альбом, тетрадку. И куда только она могла деться? Ну, сама подумай, кому она нужна — кроме меня, конечно? Взялся за вторую палатку. Машинально перелистывал книгу — и вдруг на меня глянула ты каким-то таким взглядом, что у меня перехватило дыхание. В полном смысле слова перехватило, знаешь, как когда окунаешься в холодную воду. Конечно, так подействовала не только фотография, но и долгое ожидание, я ведь уже совсем не надеялся её найти. Да и ты на фотографии какая-то не такая, какой я тебя представлял. Черты лица, конечно, те же. Те же губы, нос, глаза. Но выражение лица! Просто трудно выразиться, да ещё с таким выражением смотреть прямо на меня!
[…]
После того как я, наконец, нашёл её, я готов был от восторга всем её показывать. Во всяком случае, сам я смотрел (да и сейчас смотрю) на неё всякий раз, когда никого поблизости не было (всё же неудобно как-то, здесь не принято так относиться к фотографиям, да и вообще к девочкам). Ну, конечно, всем знакомым тоже показал, с таким, знаешь, видом, что, мол, просто получил фотографию — и, мол, не хочешь ли посмотреть?
[…]
Знаешь, всё, буквально всё, начиная от платья, поворота головы, случайно выбившейся пряди волос и кончая выражением лица, говорит, что ты здорово повзрослела. Раньше ты была ещё девочка, о своей внешности мало заботилась, может быть, даже не совсем чувствовала себя девушкой. Сейчас — другое дело. Как-никак, а годы идут.
Тебя не удивляет, что я пишу о таких вещах? Другой я, конечно, ни за что не сказал бы даже половины, но тебе могу писать о чём хочешь, тебе можно, правда?
[…]
Накатал я тебе целый лист мелким почерком только об одной фотографии! Чуть ли не сочинение!
[…]
У меня всё нормально. Настроение превосходное. Если что и мучает, так только то, что не вижу тебя и, может быть, не скоро увижу. Да и это ерунда. Мне кажется, что я самый счастливый из ребят. Даже жалко всех как-то. Серьёзно! У нас есть ребята значительно старше меня, а я чувствую себя старше любого. Интересно, правда?
[…]
Вот и второй лист кончается. Ты права, во всём письме только о своих чувствах и пишу. Только ведь это нужнее. Разве тебе интересно будет узнать, что я ел вчера?
[…]
Ну, всё! Пиши поскорее! Буду ждать! Пока!
Миша.
Здравствуй, Наташа!
Писать, собственно, нечего. Вчера только написал целое письмище.
[…]
Работы по-прежнему много. Так много, что я уже не спешу. Делаю всё спокойно, не тороплюсь. Так всегда бывает, когда слишком много работы. Становишься вдвое спокойнее, когда другие волнуются.
В общем, всё! Это мне десять дней придётся ждать ответ! Ты мне напишешь, получила ли ты предыдущее и это письмо. Хорошо?
Всё! До письма!
Миша.
Здравствуй, Наташа!
Вот получил от тебя письмо. Никак не пойму, почему письма так долго идут. Едут из Сталинграда за четыре дня, а почта (которая должна быстрее идти) идёт шесть дней! Наверное, у нас задерживают. Ведь мы в пригороде, а почта поступает в Сталинград.
[…]
Я в мечтах уже десятки, куда там десятки — сотни раз встречался с тобой, и всё время по-разному. Встречал и на пляже, прямо в воде, и на бал-маскараде, и на заводе, и даже в Краснодаре. На каждую девочку смотрел подозрительно, хотя знал, что в Краснодаре ты никак не можешь быть. Сплю я сейчас хорошо, без снов, но, когда помню сон, то ты там всегда участвуешь. Чаще я даже не вижу тебя, а только стремлюсь найти. И всегда что-нибудь мешает. Если бы я верил в сны, я был бы несчастным человеком.
Ещё в прошлом году, в первый год службы, я случайно наткнулся на одно стихотворение. Смысл его был так близок мне, что я выписал его в записную книжку. Этот стих буквально повторяет всё, что было со мной! Написал его Александр Лесин — поэт-фронтовик. Вот, читай:
[…]
Ну, как? Раньше я не решался тебе его показать. Просто поразительно, как всё совпадает с моими ощущениями.
Ну, пока! Пора спать, все уже спят. Только я и дежурный пишем письма.
Как вспомню, что надо десять дней (даже 12) ждать ответа, так хочется писать каждый день, чтобы и получать ответы каждый день.
Ну, всё! Передавай там от меня приветы, а то забудут о моём существовании. Лиде тоже передавай. А почему она мне передавала «особый» привет? А? Наверное, потому что увидела себя на рисунке.
В общем, всё. Ставлю последнюю точку. Вот рисую жирную точку, а то уже бумаги нет.
Миша.
Здравствуй, Наташа!
Совсем делать нечего. Начальство поразъехалось, а работы не оставило.
[…]
Что-то погода испортилась. Началось всё ещё вчера вечером. Только что вернулись с ужина, и пошёл «сталинградский дождь». Гремит гром, сверкают молнии, только вместо дождя — сильный ветер с пылью. Ветер настолько сильный, а пыль так густа, что лучше хочешь обыкновенного дождя вместо «сталинградского». Пыль проникает везде: и в рот, и в уши, и в глаза, и за шиворот; а ветер валит с ног.
[…]
Всё. Пора на ужин. Мне ещё деревья поливать надо.
Пиши чаще хоть, а то ждёшь, ждёшь… Шутка ли — 10 дней!
Пока!
Миша.
Передавай привет кому-нибудь. (Лень даже подумать кому. Видишь, до чего жара доводит.)
Кстати, тебе здесь тоже передают привет. Видят, что я пишу и — вот черти! — говорят, чтобы я передавал тебе привет. Знают, что я пишу тебе, а не кому-нибудь другому.
В общем, пока!
Так ты пиши.
Здравствуй, Наташа!
Только что получил твоё письмо с фотокарточкой. Но почему я её должен отослать назад? Я уже думал, что это уже мне насовсем. Даже посмотреть хорошенько не даёшь. Разве за один раз посмотришь хорошо? А вообще-то, лучше отослать. Этот тип справа мне не нравится. Что это он так подозрительно смотрит на тебя? Ну и чёрт с ним!
[…]
Я немного отвлёкся. Говорили мы о том, что мы уже совсем взрослые. Обо всём этом — говорить и говорить, и никогда не выскажешь всё, что хочется сказать. В письме, во всяком случае, — очень трудно.
А встретиться с тобой мне не то, что «страшно» будет, а всё же боязно. Ну, сама посуди: ведь теперь ты обо мне знаешь почти всё. Раньше я мог почти смело смотреть на тебя, потому что знал, что ты не знаешь, что я думаю. А теперь совсем не то. Вот, например, с Лидой, Элой, Вовой и любыми другими будет легко говорить, потому что наши отношения совсем не изменились, просто долго не виделись. А с тобой совсем другое дело. И знаешь, чего я боюсь? Именно первого слова, первого взгляда. Потом, наоборот, всё пойдёт просто и легко. А сначала, ну, вот что сказать? Просто сказать: «Здравствуй», как раньше? Не то. Поздороваться за руку? Тоже не то. Подойти как-нибудь с шуткой, отрапортовать? Ничего не получится, потому что я поперхнусь от первого твоего взгляда. Ты не смеёшься ещё? Нет, кроме смеха, что делать? Особенно если вокруг знакомые будут. Если никого не будет, как-нибудь договоримся. А вообще то всё это — ерунда. Дело ведь не в том, что сказать и как сказать. Даже если я ничего не скажу, ты меня тоже поймёшь. Правда? Ну и всё! Тем паче, что я ещё не еду в Одессу. А когда приеду, тогда и говорить будем.
[…]
Ты пиши всё же почаще. Хоть раза два в неделю. Если не о чем писать, пиши, мол, что тебе не о чем писать, и так уже наскребёшь листик, а большего мне и не надо.
В общем, пиши, Наташа.
Пока!
Миша.
Здравствуй, Наташа!
Получил, наконец-то, твоё письмо. Уже два раза собирался написать, а потом откладывал до вечера, с вечера на утро и т. д., пока не получил твоё письмо.
[…]
Я, Наташа, сейчас в наряде и спать хочу. Пока никто не трогает, я немного вздремну прямо здесь же, а ты подожди. Хорошо?
Смотри, даже дали поспать! Лёг в девять минут пятого, а разбудили в 16 минут шестого. Так что спал целый час. Теперь и в голове просторно, можно и дальше писать.
[…]
Жаль, что я тебя не видел, какая ты сейчас. Ведь я тебя помню такой, какой ты была два года тому назад, а это не особенно вяжется с твоими письмами, с твоей фотографией. Я почему-то чаще всего вижу тебя, какой ты была на станции, когда я уезжал. Ты как-то по-особенному держала Лиду под руку, Лида разговаривала со мной, а ты только улыбалась и иногда вставляла какое-нибудь слово. Сейчас, мне кажется, что ты и под руку держишь по-другому, не так, как раньше. Та поза как-то не вяжется с твоей современной фотографией. Ты, наверное, ни черта не понимаешь мои бестолковые объяснения? Я просто не могу объяснить толком. Трудно очень.
[…]
Сашка стоит рядом и удивляется, что я так много написал. А я бы с удовольствием написал ещё, но пора на ужин.
Всё!
До письма!
Миша.
Здравствуй, Наташа!
Наконец-то получил от тебя письмо! Думал, что ты уехала куда-то, и вообще в голову лезла всякая чушь.
Ты посмотри, какая лягушка нахальная! Сидит на столе и прямо на меня смотрит. Удивляется, что ли? Это после дождя. Сегодня ведь воскресенье, с утра шёл дождь до самого обеда. У меня что-то голова болела, и я как лёг после завтрака, так встал только на обед. А голова всё же побаливает. Сейчас такое ощущение, будто день только начинается. А ведь уже четвёртый час! Так вот зря воскресенье прошло.
[…]
Пиши всё же чаще, если можешь. И о себе больше. В общем, пиши. О колхозе тоже пиши. Конечно, было бы лучше, если бы ты вообще не ездила в колхоз, но у вас, наверное, выбора не будет.
Ну, всё, до письма. Только поскорее.
Пока!
Миша.
Здравствуй, Наташа!
Теперь ты можешь меня ругать: на этот раз я отвечаю на два письма. Но, понимаешь, я просто не мог раньше написать. То работы было много, то немного приболел, то то, то то… Я, конечно, мог написать коротенькое письмецо, но мне хотелось написать обо всём, что за это время произошло. А сегодня вдруг Сашка приносит от тебя письмо. Это было несколько неожиданно, потому что обычно ты меня не балуешь письмами. В общем, теперь отвечать буду сразу на два.
Начну с самого главного — об отпуске. Пока всё идёт нормально. Если так будет и дальше, то в конце августа, числа 25-го, можешь меня ждать в Одессе. Раньше никак не получается, а позже просто нет смысла рисковать. Лучше иметь воробья в руках, чем синицу в небе — так, кажется, говорят. Только мне всё равно не верится, что я смогу вскоре повидать вас всех. Во всяком случае, при первой же возможности я постараюсь отсюда уехать. Было бы хорошо, если бы к тому времени все возвратились из колхоза, в особенности ты.
[…]
А у нас знаешь какая жара? Вот уже, наверное, неделю солнце печёт немилосердно. Днём жара до 40 градусов доходит. В такое бы время только купаться и купаться. А я ещё не рискую.
Интересно, почему ты «вымучиваешь» письма, а не пишешь то, о чём думаешь, что хотела бы написать? Немножко непонятно! А когда непонятно, начинаешь выдумывать возможные варианты, что только в голову ни приходит. Действительно, какая может быть причина, которая не давала бы тебе свободно писать обо всём, что захочешь? И почему раньше ты «гораздо больше, лучше и откровеннее» писала, а теперь не можешь? Ты всё же объясни хоть, а то я ничего не понимаю.
[…]
Пока!
Миша.
P. S. Кстати, почему это надоело начинать и кончать письма одинаково? А при встрече ты разве здороваешься по-разному? Так что тут ничего особенного нет. А признаться, я тоже еле сдерживался, чтобы не добавить прилагательное или местоимение. А потом понял, что это не особенно важно, не в этом всём дело. Всё!