Ян Свитак
Смерть у костёла св. Мартина
Предыдущая статья: Франта Коцоурек. «Откуда-то издалека
прилетела в Прагу большая чёрная ворона…»
Меня всякий раз поражают свидетельства того, насколько тесна история. Удивительным образом судьба Франты Коцоурека, патриота и бесстрашного человека, переплелась с судьбой Яна Свитака, известного и влиятельного в своё время деятеля чешской кинематографии, тоже трагически погибшего — но только с пятном коллаборациониста.
Этих двух людей связывала одна женщина по имени Вилма, довольно талантливая актриса, которая была вначале спутницей жизни Яна Свитака, а затем стала женой Франты Коцоурека. Расстались Ян и Вилма вполне спокойно и цивилизованно, и между обоими мужчинами установились не просто хорошие, но — как отмечается во многих воспоминаниях — даже дружеские отношения. Франтишек Коцоурек воспитывал родного сына Яна Свитака, Милана, вся троица нередко встречалась за столом, за откровенными беседами (а во времена Протектората это было очень даже немало — откровенная беседа!). Более чем правдоподобно, что Свитак знал об антинацистской деятельности Коцоурека и что он не раз предупреждал Франту о грозивших ему опасностях. Такая вот странная дружба патриота и «коллаборациониста», «пособника оккупантов»…
Что-то тут не так, правда? Откуда вообще взялось стойкое мнение о «предателе» Свитаке? И что это вообще за человек был, этот Ян Свитак?
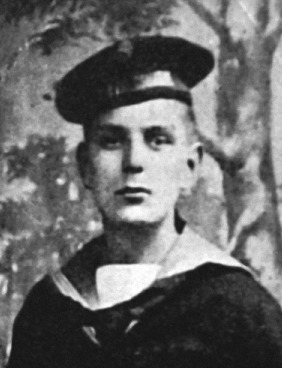 Матрос крейсера «Вена» Ян Свитак
Матрос крейсера «Вена» Ян СвитакДля понимания чехов вообще и того, межвоенного, поколения чехов, в частности, — характерен такой эпизод из биографии Яна Свитака, родившегося в самом конце 1898 года в чешском (или тогда австро-венгерском?) городе Плзень.
После начала мировой войны (той ещё, первой) рослый и физически крепкий юноша оказался в военно-морском флоте Австро-Венгрии, в состав которой много веков входила и Чехия. В 1917 году Ян Свитак служил матросом на крейсере «Вена» (вместе с ним службу на крейсере несли ещё более двадцати чехов). Ему оставалось всего две недели до 19-летия, когда крейсер «Вена» был торпедирован итальянцами и в течение четверти часа затонул. Ян Свитак тогда выжил — чудом или не чудом, но выжил и был спасён. Он мог бы считать 10 декабря 1917 года своим вторым днём рождения. Как мы увидим далее, дважды таких подарков судьба не делает…
Карел Вернер, один из «бесспорных», 100 %-ных коллаборационистов, написал 7 февраля 1943 года, в чешской газете «Неделни лист», такие строки (цитируется по изданию: Miloš Heyduk, Karel Sýs, Protektorát ve fotografiích, nakl. BVD, s.r.o., Praha, 2006; сс. 86—87):
Наши национальные интересы сейчас и в будущем находятся там, где взрастилось и наше славное тысячелетнее прошлое, — а именно, здесь, на твёрдой чешской земле. Здесь, посреди чешского жизненного пространства, где мы со всех сторон окружены немецкими соседями, живя с ними в мире, перенося вместе с ними радость и горе и в прошлом отстаивая вместе с ними, зачастую и кровью, нашу общую культуру, — здесь наша отчизна.
Под защитой сильного немецкого соседа мы отстоим не только свою культуру и свой социальный уровень, но и всю свою чешскую национальную сущность.
Но тогда, в 1918 году, чехи вместе со своими «немецкими соседями» потерпели сокрушительное поражение в мировой войне, что парадоксальным образом пошло им только на пользу: 28 октября 1918 года на карте Европы появилась Чехословакия.
Вероятно, определённую и весьма немалую роль в этом сыграла репутация (в глазах западных триумфаторов) чехословацкого корпуса, сформированного в России из военнопленных чехов и словаков и предназначенного выступить против «немецких соседей»; в действительности же чехословацкий корпус выступил против Советской России (что, конечно, лишь укрепило вышеуказанную репутацию).
Из рядов чешских легионеров вышли такие видные фигуры, как Радола Гайда (Рудольф Гайдль) — легендарный герой войны с Красной Армией, генерал в 26 лет и один из руководителей чехословацких фашистов вскоре после своего возвращения на родину; как Ян Сировы — генерал, тоже герой, который успешно руководил чехословаками в боях на Урале и в Сибири, который был премьер-министром Чехословакии в самые последние дни Первой республики и министром обороны после Мюнхена, который, как гласит современная официальная версия, «отошёл от общественной деятельности» сразу после начала оккупации, но, к несчастью, неосторожные фотографии, запечатлевшие его вместе с Гитлером и Генлейном, были использованы нацистской пропагандой, и в 1947 году Ян Сировы был приговорён к 20 годам заключения.
И, конечно, как Эмануэл Моравец — полковник Генерального штаба чехословацкой армии и патриот во времена Первой республики, а затем министр школ и министр народного просвещения уже в «протекторальном» правительстве, чешский аналог Геббельса, убеждённый и верный пособник нацистов, символ предательства и коллаборационизма.
Кстати сказать, история падения Моравца — одна из самых поразительных во всей всемирной истории. Есть даже мнение, что именно его имя должно было бы стать нарицательным, а вовсе не имя норвежца Видкуна Квислинга. Достаточно сказать, что в сентябре 1938 года Моравец явился в Пражский Град и буквально умолял президента Эдварда Бенеша не признавать мюнхенский диктат и дать военный отпор Гитлеру. Предательство западных союзников и эмиграция президента потрясли его настолько, что он мечтал только о мести, пусть даже и вместе с Гитлером.

 Эмануэл Моравец: офицер и патриот (слева) — убеждённый коллаборационист (справа)
Эмануэл Моравец: офицер и патриот (слева) — убеждённый коллаборационист (справа)
Вот так истовый патриот стал не менее истовым коллаборационистом, «апостолом национальной измены». Лично он никого не выдавал, никого на смерть не посылал, никаких чрезмерных денег от оккупантов не получал. Одного своего сына он отправил в дивизию СС «Мёртвая голова», другой служил в «обычном» вермахте, а младший сын подрастал в рядах Гитлерюгенда. И 5 мая 1945 года Эмануэл Моравец, не раздумывая, выстрелил себе в висок…
Но вернёмся, однако, к судьбе Яна Свитака.
По окончании мировой войны Свитак решил попробовать свои силы на театральном поприще. Высокий, крепкий, с характерным «крестьянским» обликом, он получает такую возможность и в 1920-е годы играет на театральных подмостках Праги, Оломоуца, Остравы, Братиславы и даже Вены. Его заметил и привлёк в свой театр (нечто вроде театра миниатюр) уже знаменитый тогда Власта Буриан. В 1928 году Ян Свитак впервые снимается в кинороли, а затем, продолжая сниматься в кино, пробует себя и в качестве кинорежиссёра.
В первом чехословацком фильме, получившем мировую известность и вошедшем в историю кино, Яна Свитака можно увидеть и теперь, пусть и в небольшой роли (танцор в кафе). Речь идёт о фильме «Экстаз», который в 1932 году снял режиссёр Густав Махаты. В главной роли фильма снялась молодая австрийская актриса Хеди Кислер (впоследствии — голливудская звезда Хеди Ламарр); в одном из эпизодов она снималась совершенно обнажённой, что во многих странах вызвало в те целомудренные годы самый настоящий скандал. Фильм «Экстаз» получил премию на фестивале в Венеции, он пользовался большим успехом у зрителей. Совсем недавно его можно было увидеть и у нас, в Санкт-Петербурге, в рамках 14-го Международного кинофестиваля «Фестиваль Фестивалей».
 Скандальный кадр из фильма «Экстаз» (1933). Вместе с Хеди Кислер снимался и Ян Свитак
Скандальный кадр из фильма «Экстаз» (1933). Вместе с Хеди Кислер снимался и Ян Свитак
Вершиной его карьеры как кинорежиссёра можно считать, наверное, комедию «Начальник станции» с Властой Бурианом в главной роли. Снятый уже во время оккупации, в 1941 году, фильм этот и по сей день пользуется в Чехии необычайной популярностью у зрителей, и его регулярно показывает чешское телевидение. К участию в своём фильме Ян Свитак привлёк, помимо Власты Буриана, таких известных актёров, как, например, Ярослав Марван и Зита Кабатова (между прочим, все перечисленные оказались после войны в непривычной для них роли «пособников» оккупантов, хотя актёрам тогда и повезло гораздо больше, чем режиссёру; однако о судьбе «короля комиков» Власты Буриана мы ещё поговорим).
 Ярослав Марван (слева) и Власта Буриан в фильме «Начальник станции» режиссёра Яна Свитака (1941)
Ярослав Марван (слева) и Власта Буриан в фильме «Начальник станции» режиссёра Яна Свитака (1941)
В 1937 году организаторские таланты Яна Свитака оценил известный кинобизнесмен Антонин Фенцл, сразу же пригласив его на должность директора киноателье «Фойя», организованных на базе старых складских помещений. При директорстве Свитака там было снято три десятка фильмов, в том числе и лучшие фильмы его самого, включая комедию «Начальник станции».
С началом оккупации Ян Свитак становится и координатором киноклуба в пражской «Люцерне», имевшего целью помочь деятелям чешского кино завязывать деловые и творческие контакты.
Именно тогда и начало создаваться мнение о близости Яна Свитака к нацистам, поскольку эти его должности предполагали достаточно частое общение с представителями оккупационных властей. И уж совсем укрепилось это мнение, когда нацисты назначили Свитака руководить неким учреждением под названием Filmprüfstelle, призванным осуществлять цензорские функции.
Всё это выглядит, конечно, достаточно грозно и подозрительно. Но вот что в 2004 году рассказал чешскому тележурналисту Станиславу Мотлу всемирно известный киносценограф, лауреат премии «Оскар» за фильм «Амадей» Карел Черны, который лично знал Яна Свитака (цит. издание, сс. 94—95):
… Его офис находился на Климентской улице. Я приносил ему туда кое-что на подпись. Он работал в Filmprüfstelle. Он, например, давал разрешение на то, какой фильм можно снимать и кто в фильме будет играть. Ему всегда предоставлялся список актёров, которых предполагалось снимать в том или ином фильме. Но я не знаю примеров того, чтобы он кого-нибудь вычеркнул. Свитак являлся человеком, который, собственно говоря, осуществлял связь между чешской и немецкой продукцией. Как мне помнится по личным встречам, он был всегда очень приятен в общении. Конечно, я слышал о нём разные слухи, что он-де общается с немцами и тому подобное, но, с другой стороны, о нём также говорили и то, что он защитил достойных людей…
Как всё-таки интересно всё устроено в жизни… Я хорошо знаю эту самую Климентскую улицу, там находится старинное здание гимназии, куда я каждое утро в течение двух лет отвозил дочь. Я много раз бывал и на Выхователне, и на Буловце. Именно в тех местах 27 мая 1942 года присланные из Лондона парашютисты словак Йозеф Габчик и чех Ян Кубиш взорвали автомобиль нацистского наместника Рейнхарда Гейдриха, погрузив Германию в траур. Габчику и Кубишу удалось скрыться, но ненадолго…
Именно с их побегом связана трагическая судьба чешской актрисы Анны Летенской. Именно с покушением на Гейдриха связана трагедия чешских селений Лидице и Лежаки. И в среду, 24 июня 1942 года, именно в те часы, когда горели Лежаки и когда взрослых их жителей ждала близкая уже смерть (дети, правда, окажутся в газовых камерах позже), буквально в те же самые часы чешские актёры в битком набитом Национальном театре тянули правые руки в нацистском приветствии и присягали на верность Третьему Рейху… Там находились все тогдашние звёзды: Лида Баарова, Адина Мандлова, Наташа Голлова, Карел Гёгер, Ян Свитак и даже несчастная Анна Летенская…
Коллаборационисты? Агенты гестапо? Да, конечно, были там и такие. Но не только они. И вот что же тогда называть чешским коллаборационизмом?
Да Бог с ними, с актёрами подневольными. В пятницу, 3 июля 1942 года, на Вацлавской площади состоялась грандиозная манифестация, подобной которой Прага не видела никогда — ни до и ни после:
 Вацлавская площадь в Праге, 3 июля 1942 года. Грандиозная манифестация солидарности чехов с Рейхом
Вацлавская площадь в Праге, 3 июля 1942 года. Грандиозная манифестация солидарности чехов с Рейхом
На Вацлавской площади чехи ликовали в 1918 году, при получении независимости, и в 1945 году — когда Советская армия победой завершила там свою войну против нацистской Европы.
На Вацлавской площади чехи протестовали в 1938 году, после мюнхенского предательства западных союзников Чехословакии, и в 1968 году — уже против опереточной «советской оккупации».
На Вацлавской площади чехи радостно приветствовали приход коммунистов в 1948 году и столь же радостно приветствовали их падение в 1989 году.
Но никогда Вацлавская площадь и прилегающие к ней улицы не собирали столько граждан, как в ту их позорную пятницу, 3 июля 1942 года.
Этот снимок был сделан с крыши Национального музея; внизу, у подножия конной статуи св. Вацлава — почётная трибуна. В переулке направо — здание, где расположилось гестапо. Чуть ниже, в переулке налево, находится дворец «Люцерна» Милоша Гавела — дяди недавнего чешского президента.
На почётной трибуне — чешские министры. Подъехал «президент» Эмиль Гаха и чиновники его канцелярии. Президент и министры обменялись зигованием. С кратким вступительным словом выступил председатель правительства, а уж потом говорил Эмануэл Моравец. А он, в частности, вот что говорил (полный текст выступления Моравца и ссылку на источник времён Протектората см. в этой статье):
Только за минувший месяц члены правительства общались самое малое с миллионом взрослых чехов. Многие корпорации, профсоюзные организации, общества, коллективы и учреждения приняли несколько сот обращений от имени более чем полумиллиона людей. Мы можем спокойно утверждать, что непосредственно, лицом к лицу, от уст к устам и от сердца к сердцу половина граждан Протектората Чехии и Моравии имела возможность выслушать своих ответственных представителей и решить, как в будущем организовать свою работу, какую позицию занять по отношению к тем событиям, свидетелями которых мы все являемся.
Тысячи и тысячи писем с выражением согласия, коллективные подписи под резолюциями, полученные президентом и членами правительства, свидетельствуют о том, что перелом в чешском народе произошёл, что прежнее равнодушие закончилось здравым пробуждением и что никогда Бенеш со своими пропащими компаньонами не был столь же далёк от понимания души всего чешского народа, как теперь, в начале второго полугодия 1942 года…
За целую тысячу лет, отделяющую нас от времени святого Вацлава, ничто не изменилось в отношении чешского народа к Великогерманскому рейху. Всегда, когда мы верно шли вместе с Рейхом, мы были сильным и славным народом. Если мы вставали против Рейха, то чешская земля приходила в упадок и опустошалась в войнах. Прислушаемся же, наконец, к тому, чему учит нас чешская история…
Да здравствует наш вождь Адольф Гитлер! Да здравствует наши великолепные немецкие вооружённые силы! Да здравствует наш президент доктор Гаха! Да здравствует чешская будущность!
Этими словами Моравец закончил своё выступление, и вся площадь стала скандировать: «Да здравствует вождь! Слава Рейху!» Потом послышались первые звуки мелодии «Kde domov můj», сводный хор Национального театра запел, и вот уже свыше двухсот тысяч чехов в едином порыве тянут в нацистском приветствии правые руки и поют при этом «Kde domov můj». Вы не знаете, что такое «Kde domov můj»? Это чехословацкий гимн, а ныне это гимн Чехии, влившейся в семью цивилизованных европейских стран. Да мы ж его много раз слышали, наблюдая по телевизору за победами чешских хоккеистов! Послушайте его мелодию и попытайтесь совместить её с нацистским приветствием…
Боюсь, что прав был чешский писатель Карел Сыс в своей оценке этого постыдного события (Miloš Heyduk, Karel Sýs, Protektorát ve fotografiích, nakl. BVD, s.r.o., Praha, 2006; с. 100):
Двести тысяч граждан, ещё за минуту до того более или менее свободных, […] отреклись от собственной свободы и собственной совести, присягнули на собственную гибель и — если сказать цинично — троекратно вписались в книгу рекордов Гиннеса, раздел «Измена».
А вот как об том же событии думает другой чех, Владимир Юст, чьими усилиями был в 1994 году реабилитирован великий комик Власта Буриан (цитируется по изданию: Vladimír Just, Věc: Vlasta Burian (I.), Rozmluvy, Praha, 1991; с. 113):
Мы опять стоим перед фундаментальной моральной проблемой «ретрибучных» декретов [имеются в виду законодательные акты 1945 года за номерами 22/1945 Sb и 138/1945 Sb, разработанные ещё чехословацким эмигрантским правительством в Лондоне и ставшие потом юридическим основанием для многочисленных послевоенных судебных и внесудебных решений — В. А.]: кто, когда и как может вообще привлечь к уголовной ответственности те сотни тысяч коллаборующих, которым посчастливилось раствориться в анонимности толпы?
И вот теперь спрошу я вас: где же пролегает она, та незримая граница между обычным слабым человеком и пособником оккупантов? Тот же самый вопрос, в сущности…
Вот здесь, наверное. Карел Чурда (см. нашу статью «Летальная доза»), один из подготовленных в Великобритании чехословацких парашютистов-диверсантов, под влиянием своей собственной матери и по своей собственной воле явился в гестапо и выдал всех остальных и всех, кто им помогал. Именно на его совести — трагедия селения Лежаки. Ему досталось 5 миллионов крон из 20 миллионов, назначенных (поровну немцами и марионеточным чешским правительством) за головы его товарищей. Другие 5 миллионов получил ещё один предатель-парашютист, Вилиам Герик. Еще 10 миллионов награды разделили между собой 60 человек, в том числе 53 предателя из числа граждан Протектората.
Карел Чурда и сам стал агентом гестапо, провокатором, выдававшим себя за парашютиста. От гестапо он получил новое имя (Карел Йергот), получил в Праге квартиру на Французской улице и месячный оклад в 30 тысяч крон. Получил он от гестапо и жену, Марию Бауэр.
Всего через три года, сразу же по окончании войны, Карел Йергот будет узнан и арестован. На суде он поведёт себя вызывающе: «А разве вы не сделали бы то же самое — за миллион марок?»
В конце апреля 1947 года Карел Чурда был повешен по приговору чехословацкого суда.
Мы приближаемся к концу нашего повествования.
Весной 1945 года поражение Германии и крах Протектората стали ну уж совсем очевидными. И многие засобирались на Запад, многие стали искать возможности уехать из страны.
Задумалась, например, Лида Баарова, задумалась Адина Мандлова, Милош Гавел — дядя драматурга, будущего диссидента, будущего президента и будущего защитника прав человека — тоже задумался…
Вот Эмануэл Моравец не собирался уезжать, потому что ему уезжать было и некуда, и незачем. Вот Власта Буриан не собирался уезжать, потому что он вообще жил в каком-то своём мире. И знавшие Яна Свитака люди в один голос утверждают, что и Свитак никуда из страны бежать не собирался, потому что… потому что никакой вины за собой не чувствовал!
Оператор Яромир Голпух вспоминает о Яне Свитаке:
… поскольку ему по должности приходилось неоднократно сидеть с немцами за одним столом, то кое-кто стал говорить, что он коллаборационист. Фактом, однако, является то, что за Свитаком шла масса людей. Если, например, с кем-нибудь случилось несчастье, допустим, кого-то арестовали… На самом деле, Свитаку несколько раз удавалось добиться, чтобы того человека выпустили. То, что это был коллаборационист, — это чепуха. Как раз наоборот.
По свидетельству его племянника Вилема, который был тогда подростком, Ян Свитак много раз повторял, что ему-де ничто не угрожает и что он может доказать свою помощь людям, пострадавшим во время оккупации. Вилем Свитак (цитируется по изданию: Stanislav Motl, Mraky nad Barrandovem, Rybka Publishers, Praha, 2006; сс. 173—174):
Мне это известно по рассказам моего отца — его брата. Якобы у дяди была какая-то тетрадь, куда он записывал, сколько и кому давал денег. Но, видимо, там было не только это…
Я знаю, что однажды в конце войны мой отец говорил ему: «Яник, соберись и поезжай на Шумаву. Там ты будешь в покое. Союзники уже у границы…» А дядя ему ответил: «Мне ведь нечего бояться. У меня есть книжка или та тетрадь, и в той книжке всё сказано. Не знаю, почему мне надо убегать на Шумаву.»
А упомянутый выше киносценограф Карел Черны расставляет все точки над «и», говоря дословно следующее (цит. издание, с. 174):
Рассказывали, но уже после войны, что у Свитака была какая-то записная книжка, тетрадь, куда он записывал, кто приходил доносить…
В наши дни можно считать уже твёрдо установленным (во многом — усилиями Станислава Мотла), что Ян Свитак никого гестапо не выдавал и что, более того, он многим помог избежать смерти. С другой стороны, есть данные и о том, что у Свитака имелся какой-то компромат, представлявший несомненную опасность для некоторых его коллег.
Тем временем, всё разваливалось буквально на глазах. 30 апреля 1945 года застрелился Гитлер. 2 мая закончилась Берлинская операция советских войск. 4 мая пражане начали срывать надписи на немецком языке и вывешивать национальные флаги. На другой день в Праге началось восстание против тех остатков немецких войск, которые ещё находились в городе.
В тот же день застрелился Эмануэл Моравец. После него остался складной ножик, да ещё ключи от кабинета и министерское удостоверение. Больше ничего.
Несмотря на то, что немецкий гарнизон был значительно ослаблен, 6 и 7 мая положение восставших стало критическим. По радио они обратились ко всем союзникам с просьбой о помощи. Танковые соединения маршала Конева из районов южнее Берлина начали своё продвижение к Праге. Американцы же находились гораздо ближе, в родном городе Яна Свитака, всего лишь в сотне километров от чешской столицы, но их главнокомандующий Дуайт Эйзенхауэр запретил своим генералам придти на помощь восставшим, поскольку договорённости с СССР не предусматривали продвижения западных союзников так далеко на восток. В эти несколько дней, пока советские танки двигались к Праге, а американцы молча наблюдали за всем происходящим, на помощь восставшим пришли войска Русской освободительной армии генерала Андрея Власова, которые атаковали немцев с запада и юго-запада, оттянув их на себя. И сейчас ещё на Ольшанском кладбище Праги, в нескольких сотнях метров друг от друга, можно видеть братские могилы советских воинов и — власовцев. Тогда в Праге они делали одно дело и погибли в боях с одним и тем же противником.
Утром 9 мая советские танки достигли Праги. Наступил час возмездия.
Маленький безликий человечек всегда прав.
Он прав, когда с пением национального гимна клянётся в верности фюреру.
Он прав, когда через несколько лет строит в своём городе гигантский памятник Сталину.
Он прав, когда потом с омерзением демонтирует этот памятник.
Он прав, когда, смирив свою «национальную гордость», дальней стороной обходит патрули немецких оккупантов, шуток не любящих.
Он прав, когда в своём благородном гневе поджигает беззащитно-неуклюжие советские танки и не даёт «советским оккупантам» простой воды, чтоб напиться.
Он прав, когда в порыве искренних чувств благодарности ставит на постамент советский танк.
Он прав, когда потом, во времена всеобщего прозрения, малюет этот танк голубой краской.
Он прав, когда носит своих коммунистов на руках.
Он прав, когда принимает потом законы о запрете коммунистам занимать должности.
Он всегда прав, маленький анонимный человек.
Грехи, ошибки и преступления берут на себя другие…
После полудня в среду, 9 мая, в огромную квартиру Яна Свитака на набережной тогда ещё Рейнхарда Гейдриха (теперь это набережная Сметаны) пришли вооружённые люди. Их вёл кто-то из ближайших коллег Свитака по киноцеху. Народные мстители перерыли вверх дном всю квартиру, а потом отволокли Свитака по находящейся за углом, в тридцати шагах от дома, улице Каролины Светлой, мимо Бетлемской и Конвиктской улиц, на близлежащую Бартоломейскую, дом номер 4.
Бартоломейская улица, пресловутый «Бартяк», «четвёрка» — что это такое для Праги? Если даже в наши дни пройти по этой улице в Старом городе, то в глаза бросится обилие вывесок с названиями всевозможных полицейских учреждений. Полиция была там ещё во времена Австро-Венгрии. В 1935 году, при Первой республике, на Бартоломейской выстроили белое здание, в котором впоследствии разместилась штаб-квартира службы национальной безопасности Чехословакии. Многим людям постарше ещё помнится чехословацкий телесериал «Тридцать случаев майора Земана», который с успехом демонстрировался по советскому телевидению и в котором в увлекательной форме повествовалось о жизненном пути симпатичного сотрудника органов госбезопасности. Так вот, майор Земан работал на той самой Бартоломейской улице…
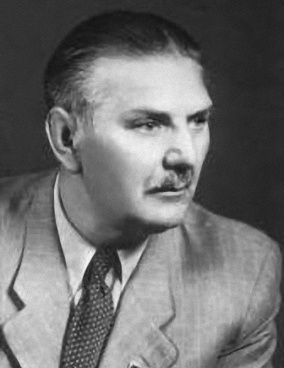 Ян Свитак
Ян СвитакНо вернёмся в 9 мая 1945 года. Должно быть, Свитак, хоть и оборванный, избитый и униженный, вздохнул с облегчением, когда за ним захлопнулись тяжёлые полицейские ворота. Теперь его ждали допросы, в ходе которых он надеялся оправдаться. У него были свидетели, и если уж впереди маячил суд, то Свитак знал: в годы оккупации он вёл себя ничуть не хуже, если не лучше, чем сотни тысяч его сограждан.
(Заметим в скобках, что эта его уверенность была вполне оправданной. С мая 1945 года по конец 1948 года суды разных уровней рассмотрели дела 132 тысяч 549 человек, обвинённых в пособничестве оккупантам. Всего лишь 22 с половиной процента обвиняемых были осуждены, причем половину из осуждённых составляли немцы, и только 35 процентов, примерно 10 тысяч человек, — чехи и словаки. Большинство осуждённых вскоре оказались на свободе. К смерти были приговорены 713 человек в Чехии и 65 человек в Словакии. Многие коллеги Свитака по киноискусству прошли через эти суды, отсидели своё или даже меньше и оказались на свободе.)
Надеждам Яна Свитака не суждено было сбыться. То, что произошло потом, представляется хорошо срежиссированным спектаклем. Утром 10 мая перед теми полицейскими воротами собралась толпа, десятки или даже сотни человек — кто теперь скажет, сколько? Толпа жаждала получить Свитака. И вот случилось нечто совершенно невероятное: вместо того, чтобы продолжать расследование с целью выяснить его возможную вину, Яна Свитака вытолкнули из дверей полиции прямо в разъярённую толпу. Вытолкнули в одном нижнем белье — одно лишь это свидетельствует о том, что полицейские сознательно обрекали его на смерть и знали наверняка, что верхняя одежда ему уже не понадобится. Таким образом, именно в полиции было тогда совершено самое настоящее преступление, которое впоследствии никем и никогда не расследовалось.
И моментально начался суд Линча. Яна Свитака, окровавленного, полуживого, растерзанного, волокли по Бартоломейской улице по направлению к старинному костёлу св. Мартина.
Его убивали те же самые люди, которые несколько лет оккупации вели себя тихо-тихо, которые на своих предприятиях честно трудились во славу победоносного немецкого оружия, которые в гораздо более внушительной толпе и не раз клялись в верности фюреру и которым посчастливилось остаться в итоге неузнанными.
Но нет! Не все остались неузнанными. По воспоминаниям некоторых очевидцев, в числе народных мстителей был некий коллега Свитака по Чешско-моравскому киноцентру и некая известная чешская актриса, ныне покойная. Кто? Адина Мандлова? Зита Кабатова? Люба Германнова?.. Тележурналист Станислав Мотл утверждает, что он знает её имя, но что он дал слово сохранить его в тайне.
 Пересечение Бартоломейской (на снимке прямо) и На Перштине. На этот перекрёсток его и приволокли.
Пересечение Бартоломейской (на снимке прямо) и На Перштине. На этот перекрёсток его и приволокли.
Осталось пройти чуть влево (на снимке) и затем ещё раз повернуть налево. К старинному костёлу
Конец Бартоломейской улицы. На перекрёстке толпа повернула направо, на улочку, которая всё ещё называлась Бергштейн (теперь — На Перштине). Поверни толпа налево, и она могла оказаться у дома, где жил Моцарт, или на том месте, где проповедовал Ян Гус… Но она повернула в другую сторону, а затем налево, к мрачному старинному зданию костёла св. Мартина, где и в наши дни малолюдно и тихо.
Дальнейшее пусть расскажет участник события, который после долгих переговоров согласился встретиться со Станиславом Мотлом в кафе «Славия» и очистить, наконец, свою совесть — на условиях анонимности. Естественно… Цитируется по изданию: Stanislav Motl, Mraky nad Barrandovem, Rybka Publishers, Praha, 2006; сс. 188-189.
Мне необходимо было с вами встретиться, пан редактор. После того, как я увидел по телевизору ваш репортаж о режиссёре Свитаке, я сказал сам себе, что должен всё это кому-нибудь рассказать. Я остался один, у меня никого уже нет, и я чувствую, что уже скоро и сам окажусь на том берегу, откуда нет возврата.
Я тогда был там, пан редактор. У того костёла, где я оказался совершенно случайно и всё видел. Но поверьте, я и понятия не имел о том, кто это был…
Войдите в мою ситуацию: моего отца застрелили во время гейдрихиады, мне было тогда двадцать, и я каждого немца ненавидел. Мне и в голову не пришло думать о том, не является ли, случаем, невинным тот человек, которого те друзья так остервенело избивали…
Только потом, когда тот русский солдат с детским лицом, которое я не могу забыть, его застрелил, только потом мне кто-то сказал, что это был какой-то известный чешский режиссёр… Вы представляете себе этот ужас? Толпа сходит с ума, мимо идёт русский солдат, он вообще не знает, что происходит, толпа ему орёт, что-де если у тебя есть оружие, то ты должен застрелить этого нацистского убийцу, и он, который, наверное, прошёл фронт и видел множество мёртвых, без раздумий делает это и после спокойно уходит. А там остаётся мёртвый и, как я сегодня знаю, невинный, видимо, человек…
Как вы думаете, я тоже виновен? Может, достаточно было закричать… Люди, не сходите с ума, позовите полицию, пусть его допросят, пусть его судят. Но я этого не сделал…
Теперь мы знаем, что Ян Свитак не был виновнее многих и многих своих сограждан. Мы знаем также, что звать полицию в то майское утро не имело никакого смысла.
 Костёл св. Мартина. Вот здесь Яна Свитака и линчевали
Костёл св. Мартина. Вот здесь Яна Свитака и линчевали
Все записи Свитака исчезли без следа…
Франта Коцоурек, как мы помним, погиб в концлагере Освенцим 13 мая 1942 года. Его жену Вилму нацисты отправили в концлагерь Терезин. Ей удалось выжить там, и к 10 мая 1945 года она вернулась в Прагу. Объединявшая двух своих мужей при их жизни, она объединила их и после смерти.
Именно она, оплакавшая своего второго мужа, позаботилась и о первом. Именно она подобрала тело Яна Свитака, которое несколько часов валялось у костёла св. Мартина, и привезла его в пражский крематорий Страшнице…
Валентин Антонов, ноябрь 2006 года
Следующая статья: Пик «Гейдрихиада».
1. Инъекция гражданского мужества