К началу: «Июнь — октябрь»
Непрерывное и острое ощущение свободы
10.10.41
К нам в дом переехала М. Ф., квартиру которой снарядом перерезало как раз пополам. Чудны дела Твои, Господи! Снаряд попал в лестницу, и дом разрезан как ножиком, на две половины. Ни одна из квартир не пострадала. […]
Немцы организовали столовую для населения. Обед стоит три рубля. Выдаётся по талонам, которых ограниченное количество. Талоны распределяются городской управой. Имеется таковая, и городской голова, который в просторечии именуется бюргермейстером. А мы, значит, бюргеры. Как-то дико. В столовой отпускают супы. Обычно это горячая вода, и на каждую тарелку приходится (буквально) или одна пшеничинка, или горошинка, или чечевичинка. Привлекательна только возможность купить при супе одну лепёшечку из ржаной муки. Она величиной с блюдечко для варенья и имеет чисто символическое значение, но по вкусу — ни с чем не сравнимо. Ведь почти с самого прихода немцев мы даже и не видали хлеба. […]
М. Ф. получила в Управе работу по раздаче этих самых талончиков, а я — назначение квартуполномоченным. Что это означает — никто не знает. Не знаю и я. Обязанность моя — никого не пускать в пустые дома нашего квартала. И следить «за порядком». Что под этим подразумевается, я не знаю да и знать не очень хочу. Всё равно никакого «порядка» быть не может. Люди переходят из одного дома в другой беспрерывно. […] А некоторые из оптимистов, наголодавшись на жилищной норме по человеческому жилью без норм, стремятся захватить квартиры побольше и получше, мечтая остаться в них и после войны. Иногда только устроятся, как в квартиру попадает снаряд, и они кочуют в другое помещение. Вот тебе и порядок! Самая основная и характерная черта нашей теперешней жизни — перманентное переселение. По улицам непрерывно движутся с места на место толпы людей, нагружённые тележками, саночками с мебелью и узлами, а сверху вся эта передвижная барахолка поливается артиллерийским и пулемётным огнём. Одни падают и остаются лежать на месте, а другие продолжают свой бег. Прибавляют «порядка» и немцы, которым вдруг иногда попадает вожжа под хвост и они требуют то концентрации населения в каких-либо кварталах, то, наоборот, расселения. Зависит от военного гения и творческой мысли очередного коменданта, которые меняются чуть ли не еженедельно. […]

14.10.41
Сегодня наш с Колей юбилей: 22 года мы прожили вместе. Никогда ещё наша жизнь не была ещё столь напряжённой. С одной стороны, угроза физическому существованию как от снарядов и пуль, так и от голода, с другой — непрерывное и острое ощущение свободы. Мы всё ещё переживаем медовый месяц думать и говорить по-своему. Немцы нами, населением, совершенно не интересуются,13) если не считать вдохновений комендантов, которые меняются чуть ли не еженедельно, да ещё мелкого грабежа солдат, которые заскакивают в квартиры и хватают что попало. […] За меховое пальто платят две буханки хлеба или пачку табаку. Но платят. Жадны и падки они на барахло, особенно на шерстяное, до смешного. Вот тебе и богатая Европа. Даже не верится. А пишут всякие гадости про красноармейцев, которые набрасывались в Финляндии на хлам. Так то же советские, которые и в самом деле нищие. И хлам финский совсем не то, что наш. Вот тебе и покорители всей Европы! Чудно!
На Украину — к «молоку»
17.10.41
Сегодня Н. Ф., Тася и мать Н. В. отправились в тыл.14) Что-то с ними будет? У Н. Ф. мечты пробраться на Украину — к «молоку», как она беспрерывно повторяет. Как чеховские «сёстры». Те всё твердили «в Москву», а она — «к молоку». Н. Ф. боится за Тасю, так как она полуеврейка, и все кругом об этом знают, «…а эти пролетарии»… Надо было слышать, как это было интонировано пролетарской писательницей из партийных кругов! Я думаю, что ничего страшного не было бы, и никаким пролетариям ни она, ни её дочка не нужны. Но, конечно, ничего не сказала.
Ушли они не столько от пролетариев, сколько от наступившего голода, беспрерывной стрельбы и немецких заскоков в квартиру во всякое время дня и ночи. Да и сидеть все ночи в кухне, не раздеваясь и ожидая, что каждую секунду к вам может влететь снаряд и убить или искалечить, тоже не мёд. Чтобы несколько отвлечься от страхов, мы все, кроме Николая, который спит как младенец, по ночам играем в карты. Коптит ночник. Снаряды падают густо. Иногда попадают в наш дом, и тогда ночник гаснет, а мы сидим и усиленно стараемся казаться заинтересованными игрой. Но и это перестаёт помогать. Если стрельба затихает часа на 2—3, засыпаем здесь же, на кухне. Кухня почему-то считается самым безопасным местом.
Теперь мы почти каждую фразу начинаем с «е. б. ж.» — если будем живы. Это заклинание, в которое верят все: и коммунисты, и позитивисты, и идеалисты. Н. Ф. надела Тасе на шею списанный на бумажку псалом «Живый в помощи вышнего». Крестится при каждом близком разрыве. И это делает её несколько человечнее и приемлемее для нас. Хотя мы прекрасно знаем, что если она только попала бы опять к красным, то, конечно, немедленно перестала бы «верить» и ещё обязательно выдала бы нас с головой, передав и с прикрасами всё, что мы говорим теперь о нашей «дорогой и любимой» власти. Партийная диалектика!..
Немцы днём и ночью шатаются по пустым
и непустым домам в поисках барахла
20.10.41
Разбило совсем крышу нашего дома. Один снаряд попал в большой зал консерваторского общежития за нашей стенкой. Исковеркало всю комнату, но замечательно, что ни один из трёх роялей не пострадал, если не считать царапин от кирпичей и штукатурки. У нас, конечно, не осталось ни одного стекла в квартире. Последняя печка в кухне перестала гореть. Забили окна фанерой, и я соорудила на плите «очаг», чтобы готовить пищу — на нём готовим, вернее, кипятим воду — готовить-то совсем нечего.
22.10.41
Вчера пережила настоящий страх. Гораздо более сильный, чем от стрельбы. Сказались советские навыки - чего бояться, а чего нет. Из разбитого зала консерваторского общежития, которое прямо за нашей стеной, кто-то ночью стрелял. А м. б. и не стрелял вовсе. Но, в общем, когда я была одна дома, ко мне приехал на мотоцикле молодой и очень красивый и вылощенный немец. На рукаве у него были какие-то знаки в виде молний. Таких знаков и таких холёных немцев мы ещё ни разу не видали. Приехал и начал выматывать из меня жилы: знаю ли я, что стреляли, да кто стрелял? И т. д. Я ничего не знала, да и знать-то было нечего. Весь дом, кроме наших двух комнат, которые имеют к тому же и совершенно отдельный ход, стоит с разбитыми окнами и выбитыми дверями. В большом зале три рояля. Немцы днём и ночью шатаются по пустым и непустым домам в поисках барахла. Некоторые гётевские души приходят играть по ночам на этих роялях. Мы в полкилометре от передовых позиций. Стреляют всегда и непрерывно. Может быть, какой-нибудь дурак и выпалил из нашего дома. Кто их там разберёт. И как это можно угадать, что стреляли именно от нас? И кто? Всё это я ему и объяснила, только намного вежливее, чем пишу теперь. Мой немецкий язык настолько неправилен, что он несколько раз принимался смеяться. Потом пытался мне пригрозить, что если я не признаюсь, то он прикажет расстрелять весь двор. Тогда, обозлившись, я собрала все свои познания в немецком и спросила, есть ли у них ГПУ, и если есть и он оттуда, то я немедленно же признаюсь во всём, чего он хочет, и даже «бисхен мер». Так как в этом случае не признаваться ничему не поможет, а я есть «мюде» от всех этих «клейнигкейт». Так и сказала на полурусском-полунемецком волапюке. Мои последние изречения его окончательно доконали. Разговоры эти длились около двух часов. И я устала безмерно, и он тоже. Конечно, мы и половины не поняли из того, что говорили друг другу, но всё же побеседовали. И я ещё очень боялась, что придут Коля и М. Ф. и этот дурак их напугает Наконец, потребовав, чтобы мы никуда не уходили этой ночью, он уехал. Всю ночь мы просидели одетые и ожидали визитёров. Но никого не было. Необходимо уходить из нашей квартиры. Но уйти мы можем в дом в этом же дворе. Очередной комендант запретил передвижение по улицам. Можно только перемещаться в том же дворе. Разница небольшая. А наш двор такой, что можно пушку спрятать и не найдут.
Если бы они были «почище ГПУ»,
то я не писала бы этих строк
23.10.41
Пошла в управу и расспросила нашего бургомистра о вчерашнем визитёре. Оказывается, с такими знаками ходят «СС». Говорят, что это почище наших ГПУ. Стоят они в Александровском дворце, и на воротах висит не очень крупная надпись по-немецки и по-русски, что проходить мимо этих ворот нельзя никому из гражданского населения даже и в сопровождении немецких солдат. Т. е. население лишено возможности прочесть эти надписи. Если же кто проходит, в него стреляют без предупреждения. И вот один из этих-то ангелочков и был у меня. Бургомистр перепугался до смерти и приказал нам немедленно перебираться в другой дом. А какая разница? Но мне не страшно. Если бы они были «почище ГПУ», то я не писала бы этих строк, а М. Ф. идиллически не раскладывала бы пасьянса. […]

Пишу всё это при ярком свете. Освещаемся по способу эскимосов. Нашли в сарае бутылку какого-то масла. Есть нельзя — воняет. Но горит превосходно. […] Копоть несусветная. Через два часа после того, как зажгли нашу эскимосскую лампу, — вся мебель и мы все покрылись налётом жирной и вонючей копоти. М. Ф. ворчит — карты пачкаются, пасьянс скоро нельзя будет разложить. Я же в восторге — писать и читать можно свободно. Теперь появилась из тайников масса книг, о которых при советчиках мы и мечтать не смели. Например, сейчас читаю «Бесы» Достоевского. Теперь этот роман производит ещё более потрясающее впечатление, чем раньше. Все пророчества сбылись на наших глазах.
Всё как во сне… Человек из того мира,
о котором мы только мечтали
01.11.41
Произошли два важных события в нашей жизни. Коля ходил в Павловск и «продал» там полушубок. Конечно, как и всегда с нами, когда мы становимся «дельцами», кроме анекдота ничего не получилось. Он очень запоздал и пришёл уже после запретного часа. Я чуть с ума не сошла от страха. И, конечно, пришёл без кожуха и продуктов. Немцы обещали заплатить «завтра». Правда, они дали ему солдатского супу поесть. И то хорошо. Но всё же за большой и новый кожух маловато. Я не верю, что завтра они заплатят. А там — кто его знает? Всё же это европейцы.
Второе событие: познакомилась с настоящим «белым». Бывший морской офицер. Воспитанный, упитанный, вымытый и по нашим масштабам утрированно вежливый. Как на театре. Рассказывал о работе белой эмиграции против большевиков. Сам он из Риги. Обещал дать мне Шмелёва и ещё некоторые книги, изданные за границей. Работает переводчиком у немцев. Всё как во сне. Мы и настоящий белый эмигрант! Человек из того мира, о котором мы только мечтали. И ещё: трудно поверить, что где-то есть не советская и не фронтовая, а нормальная человеческая жизнь. И до этой жизни всего один день пути. Но для нас это так же далеко, как до Марса.
… И его там опять накормили супом. Всё же
Европа имеет свои моральные минимумы
02.11.41
Коля всё же пошёл в Павловск, несмотря на мои мрачные прогнозы. Он получил плату за кожух и принёс полмешка настоящей еды. И его там опять накормили супом. Всё же Европа имеет свои моральные минимумы. И честные люди, даже и немцы, не перевелись на свете. […]
04.11.41
С едой всё хуже. Того, что нам принёс Коля из Павловска, хватит ненадолго. Вылазки на поле за турнепсом и картошкой приходится совсем прекратить. Также и за лошадьми. Вблизи уже всё подобрали, ходить далеко опасно, да и немцы не пускают. […] Собираем жёлуди. Но с ними надо уметь обращаться. Я научилась печь прекрасные пряники из желудей с глицерином и корицей.[…] У бабушки, матери Н. В., мы нашли в комоде полную большую банку корицы. Почему она у неё оказалась — понять невозможно. А в кладовке у Ершова литра два глицерина. Вот тебе и пирожные.
 Ю. Ю. Клевер-младший, «В рыбном магазине» (1938 год; для выставки «Пищевая индустрия»)
Ю. Ю. Клевер-младший, «В рыбном магазине» (1938 год; для выставки «Пищевая индустрия»)
Художник Клевер, сын знаменитого пейзажиста Клевера,15) съел плохо приготовленную кашу из желудей, отравился танином, и у него отнялись ноги. Нужно было молоко. В том дворе, где они живут, живёт баба с коровой. Сестра Клевера умоляла бабу продать ей молока, но баба отказалась, так как у немцев она может получить продукты, а деньги ей ни к чему. Кто-то из возмущённых соседей позвал проходящего мимо немецкого солдата и рассказал всю историю. Немец немедленно поколотил бабу и приказал ей отдавать весь удой молока в течение недели бесплатно Клеверам. Клеверы брали только столько, сколько нужно, и платили бабе. Нужно было видеть, рассказывали мне, как баба чуть не на коленях ползала перед немцем. Хотя какое право имел немецкий солдат ей приказывать? А солдат ежедневно приходил и проверял, исполняет ли баба его приказание. Ведь вот бывают же на свете такие! Клевер поправился.16)
Наша интеллигентская мягкотелость
не позволяет бросить всё сразу
06.11.41
Начались уже настоящие морозы. Но топлива сколько хочешь. Все полуразрушенные дома можно разбирать на топливо. А у нас ещё много профсоюзных дров. Да здравствует профдвижение! Вчера переехали во дворе в дом Ершова. Здесь у нас две комнаты жилых и две нежилых. […] Нежилые комнаты заменяют кладовки. И жить можно. А в кладовках мы нуждаемся потому, что Н. В. и Н. Ф. и ещё другие соседи просили нас при отъезде слёзно сохранить их вещи. Мы пообещали, и вот теперь таскаем всё с места на место, как дураки. И знаем, что всё равно всё пропадёт, но наша интеллигентская мягкотелость не позволяет бросить всё сразу. Особенно ненавижу я пианино, которое Н. Ф. успела «приобрести» в консерватории и на которое написана нам перед отъездом доверенность распоряжаться.17) И вот таскаем. Пропади оно всё пропадом! Нашего-то у нас уже почти ничего не осталось, кроме нескольких вещичек вроде палехских ящичков. Да ещё — библиотеки, которая тоже отнимает массу сил при перетаскивании. Но это книги! Развели уют. […] Я нашла в водопроводном колодце немного воды, которая не замёрзла, потому что колодец глубокий и закрыт крышкой. Помылись, и я даже немного постирала. Сказали соседям, что есть вода и не надо ползать на животах к пруду. М. Ф. устроила мне сцену — «нам не хватит».
Это какая-то ихняя секретная полиция,
но не из самых свирепых, а помягче
08.11.41
Сегодня к нам пришёл знакомиться некий Давыдов. Он «фольксдойч», как теперь себя называют многие из обрусевших немцев. Работает переводчиком у немцев при СД. Это какая-то ихняя секретная полиция, но не из самых свирепых, а помягче. Хочет оказать Коле протекцию. Он слушал колины лекции по истории в Молочном институте и был от них в восторге, как и все прочие профессора и преподаватели. Вот ещё тоже один из анекдотов советской жизни: Коля не имел права читать лекции для студентов, а вот для профессоров — имел. И как только русская история возродилась опять из марксистского пепла — его немедленно стали рвать на части в различные высшие учебные заведения. […] А с другой стороны — у меня всегда поджилки тряслись, что когда-нибудь он направится прямо с лекции в тот университет, из которого никто ещё не возвращался. И как только он запоздает с лекции, а это было всегда, потому что его задерживали слушатели вопросами, я уже начинаю готовитъ ему рюкзак с сухарями и дорожными вещами. Так оно, конечно, когда-нибудь и было бы, если бы не благословенные немцы. […] И эти лекции и теперь нам сослужили большую службу. И моё назначение квартуполномоченным, а отсюда и получение хоть изредка, хоть раз в две недели какого-то съедобного подобия произошло потому, что наш городской голова (бургомистр) тоже один из слушателей Николая — приват-доцент.
И Давыдов тоже вот сегодня пришёл с помощью. Этот Давыдов, хоть и переводчик, которые почти все поголовно оказались дрянью и захребетниками, не плох. Он, сколько может, оказывает помощь людям.
Настоящий патриотизм — в том, чтобы
помогать всем врагам большевиков!
Переводчик — сила, и большая. Большинство из них — страшная шпана, которая дорожит только своим пайком и старается сорвать с населения всё, что только возможно, а часто и то, что невозможно. Население же целиком у них в руках. Придёт человек в комендатуру по какому-нибудь делу, которое часто обозначает почти жизнь или смерть для него, а переводчик переводит, что хочет и как хочет. И всегда бывает так, что комендант требует от него невозможных взяток. А взятки даются тоже через переводчика. Все они вымогатели, и все ползают на брюхах перед немцами. […]
Так вот, слухи о Давыдове ходят самые хорошие. Говорят, что он, если и не может много помогать населению, то всё же при переводах держится всегда елико возможно близко к истине и никогда не берёт с населения взяток. Пришёл он к Коле с заявлением, что немцы очень «ценят культуру» и зовут интеллигенцию для работы с ними. Интересуются они главным образом специалистами военными и техническими. Но колина специальность здесь ничего не может им дать. И это очень приятно. Хотя наша дорогая родина и стала нам всем поперёк горла, а всё же для нас было бы невозможно выдать врагу какой-нибудь военный секрет. И хотя теперь «родина» — не народ и не государство, а шайка бандитов, а вот поди ж ты — не смогли бы! Никак не можем отделаться от нашей «устаревшей принципиальности». Хотя и знаем, что большевизм не победить благородными чувствами и сохранением своих патриотических риз. Да и настоящий патриотизм — в том, чтобы помогать всем врагам большевиков!
Если бы немцы пригласили нас… Пошла бы я?
— Пошла бы! Взяла бы винтовку и пошла!
10.11.41
Протекция и блага, которые нам принёс Давыдов, состоят из трёх тарелок супа. Но немецкого, но ежедневно, но не солдатского, а из того самого СД […]. Вот и не верь предчувствиям! Да, так, — суп! Это такая роскошь, за которую не только первородство продашь! Работа, которая потребовалась от Коли, состоит в исследовании по «истории бани» и тому подобной чепухи. Кажется, эта история нужна для того, чтобы доказать, что у славян бани не было и её им принесли просвещённые немцы. Боже, до какой глупости могут доходить цивилизованные европейцы! Война, кровь, ужасы, и тут — история бани! Но хорошо, что хоть суп за неё платят.
Коля говорит, что он напишет работу и докажет, что славяне принесли немцам и европейцам баню. Так, мол, говорят исторические летописи, а что говорит по этому поводу Заратустра — неинтересно. Боюсь, что придётся скоро расстаться с супом! Но ничего, и вчера и сегодня поели. И завтра, е. б. ж., — поедим. Я очень прошу Колю растянуть процесс исторических изысканий елико возможно надольше. От этих занятий как будто бы предательством родины не пахнет. Но ведь если бы немцы пригласили нас не чепухой заниматься, а, скажем, стрелять вот туда, в Фёдоровский городок? Пошла бы я? — Пошла бы! Взяла бы винтовку и пошла! А вот доносить и передавать военные секреты — нет возможности. М. б., это одно и то же, а для нас — невозможно. А вот те самые коммунисты, на которых русский народ не доносит, — непременно донесут обо всём и обо всех. И насчёт военных секретов они тоже не очень как будто бы секретничают, насколько мы уже тут слышим. А придут красные — и они опять попадут на «верхи». Да и у немцев они не на низах сидят. Сколько мы уже знаем бывших коммунистов, которые работают «не за страх, а за совесть» на немцев. И не просто с ними сотрудничают, а все или в полиции, или в пропаганде. Кто их знает, может быть, они и искренние, но всё же как-то не верится. Не переделать волка в овечку. Что они беспринципны принципиально — это-то хорошо известно, и что для них никаких принципов, кроме волчьих, — тоже известно.
Голод принял уже размеры
настоящего бедствия
12.11.41
Жизнь начинается робинзонья. Нет ничего самого необходимого. И наша прежняя подсоветская нищета кажется недостижимым богатством. […] Особенно тягостно отсутствие мыла и табаку. Ну, с табаком — хоть окурки собирать можно. Хотя немцы не очень-то ими бросаются. А вот мыла нет, и это чистое несчастье. От освещения коптилками, бумажками и прочими видами электрификации вся одежда, мебель и одеяла покрыты слоем копоти. Проведёшь рукой по одеялу — и рука чёрная… Лица стали неузнаваемыми от чёрного налёта на них. Моемся приблизительно. Да и что можно сделать без мыла при такой копоти? Одна женщина попробовала умываться золой из печи, и всё лицо у неё облезло. Без мыла перестаёшь себя уважать…
Немцы организовали богадельню для стариков и инвалидов. И мы отправили туда бабушку — свекровь М. Ф. Всё-таки хоть что-то она там будет получать,18) а мы будем сколько возможно помогать ей от себя. Благо дом этот совсем около нас. Организован также детский дом для сирот. Там тоже какой-то минимальный паёк полагается. Всё остальное население предоставлено самому себе. Можно жить, вернее, умирать, — на полной своей воле. […]
Голод принял уже размеры настоящего бедствия. На весь город имеются только два спекулянта, которым разрешено ездить в тыл за продуктами. Они потом эти продукты меняют на вещи. За деньги ничего купить нельзя. Да и деньги все исчезли. Цены соответственные: хлеб расценивается по 800—1000 р. за килограмм, меховое новое пальто 4—5000 рублей. Каракулевое или котиковое. Совершенно сказочные богатства наживают себе повара при немецких частях.
Мы рады бесконечно, что с нами немцы
18.11.41
Морозы уже настоящие. Население начинает вымирать. Каково же будет зимой? У нас уже бывают дни, когда мы совсем ничего не едим. Немцы чуть ли не ежедневно объявляют эвакуацию в тыл и так же чуть ли не ежедневно её отменяют. Но всё же кое-кого вывозят. Гл. обр. — молодых, здоровых девушек. Мужчин молодых почти совсем не осталось. А кто остался, те ходят в полицаях. Многие разбредаются сами куда глаза глядят. Кто помоложе и поздоровее — норовит спрятаться от эвакуации. Некоторые справедливо считают, что сами они доберутся, куда хотят, лучше. Некоторые ждут скорого конца войны и стараются пересидеть на месте. «Тыла» теперь боятся. Хотя немцы и объявляют, что в дороге всех будут кормить, а по прибытии на место всем обеспечены жилища. Но где это самое «место», не сообщают. Надоело всё до смерти.
Вчера мне принесли извещение об эвакуации, а Коля и М. Ф. остаются. Я понеслась вне себя в комендатуру и там напала на какого-то неповинного и, как потом оказалось, даже не на нашего фельдфебеля. Я сумела ему рассказать всю нелепость такого постановления прежде, чем он сказал мне, что он сам только что приехал по делам в Пушкин и тут ни при чём. Я завопила, что все они «тут причём». И мне всё равно, какое начальство делает такие унанштендиге захе! Он, давясь от смеха, скрылся во внутренние покои комендатуры и потом через некоторое время вынес мне бумажку, разрешающую и мне оставаться с нашими. […]
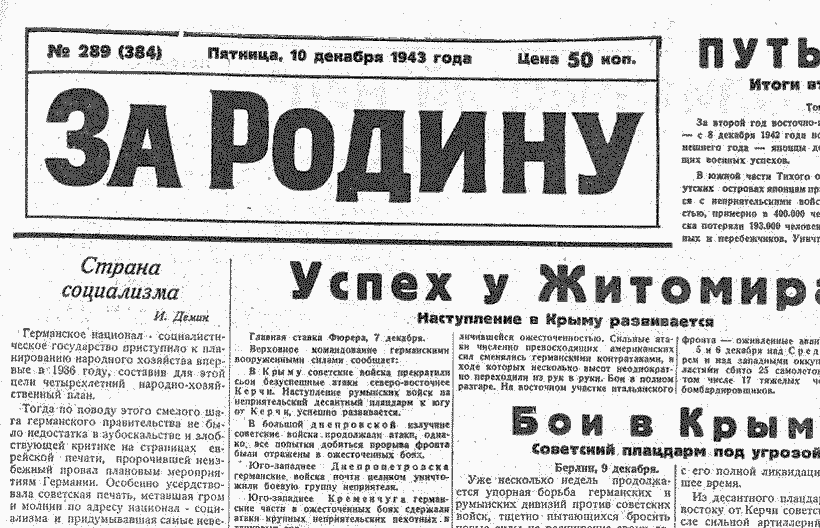
Впрочем, нужно признаться, что немцы в подавляющем своём большинстве народ хороший, человечный и понимающий. Но сейчас-то война, и фронт, и всякие там идеологии, и чёрт его знает, что ещё. Вот и получается, что хорошие люди подчас делают такие вещи, что передушил бы их собственными руками. И всё же мы рады бесконечно, что с нами немцы, а не наше «дорогое и любимое правительство». Каждый день приходится проводить параллели. Ну, скажем, произошло бы такое при наших. Пошла бы я в комендатуру. Что меня там, выслушали бы? Да ни за что. Ещё и припаяли бы несколько лет за «антисоветские настроения» или за что-нибудь ещё. Говорят, что мою практику нельзя применять в гестапо. Это ихнее ГПУ. Слава Богу, у нас на фронте такого ещё не было.
Попала в колоссальную неприятность
22.11.41
Вчера попала в настоящую и колоссальную неприятность. Но опять кривая вывезла. Надолго ли хватит этого везения только? Начали выселять людей из Александровки, так как там всё время идут бои. Господи, живём на самом фронте! Жители Александровки почти исключительно железнодорожники. Они были всегда на привилегированном положении. Каждый имел подсобное и необлагаемое хозяйство: участок земли при собственном доме, коров, коз, пасеки, птицу. Плюс ещё так называемые «провизионки» — билеты, дающие право на провоз продуктов из провинции. […] Это были своеобразные советские помещики, и жили они так, как и не снилось ни колхозникам, ни единоличникам. Выселяться им не хочется. Все свои продукты и имущество они позарывали в землю. А их непреклонно выселяют и приказывают селиться не ближе как за 25 километров от Александровки. Они же, конечно, норовят поближе. И самым для них лучшим местом является Пушкин, потому что это и близко, и ходить можно удобно через парки. А они надеются туда ходить за вещами и провизией.
Уже перед самым началом запретного часа к нам во двор ввалилась группа александровцев с саночками и тележками. Нагружены они были, как добрые верблюды. Стали умолять, чтобы пустили их переночевать. В нашем доме пять пустых комнат, и я их пустила. Состав семей: старик, его жена, ещё нестарая женщина, — в одной, а во второй: муж, жена, двое детей 10 и 11 лет и 16-летний мальчик Витя, племянник жены, который приехал незадолго до войны погостить у тётки из Торжка. Прелестный мальчик. Из-за него, гл. образом, я и рискнула их пустить. Уж очень он мне понравился своей серьёзностью и интеллигентностью. Да и все они произвели на нас самое благоприятное впечатление. Прожили они у нас благополучно четыре дня, как о них донесли коменданту. Донёс начальник полиции Мануйлов, по рассказам — самый настоящий бандит. И вот он привёл ко мне немецкого коменданта выяснять, на каких основаниях я, вопреки приказу, впустила в дом александровцев. […]
«Я русская женщина и это русские люди»
Я ответила, что вешать он меня может, но заставить как уполномоченную по квартирам выгонять ночью людей на улицу, где каждый патруль должен их застрелить, — не может. Я русская женщина и это русские люди. И достаточно ужасов войны и так, чтобы я ещё прибавляла их. Да я и с немцами так не поступила бы. Потом, мне достоверно известно, что г. Мануйлов знал об их вселении сюда, так как ещё вчера старик вставлял стёкла в комендатуре и управе и, кажется, сегодня вставляет их у г. коменданта. А стекольщиков управа никак не могла найти, и меня даже городской голова благодарил, что я нашла этого старичка. […] Комендант смягчился и сказал, что вешать он меня, м. б, и не будет, но что он должен посадить меня в тюрьму. Я сердито привела пословицу о «тирхенах и плезирхенах». И тут он расхохотался и попросил показать ему квартиры нашего дома. Я повела его сначала в наше жилище. Увидав наше палаццо, которое я по случайности только сегодня отмыла, как умела, холодной водой, он пришёл в восторг от чистоты и порядка и заявил, что только немецкие женщины умеют и во время войны содержать в таком порядке свои жилища. Хотелось мне очень дать ему по физиономии, но не посмела. Расстались мы по-хорошему, и Мануйлов получил приказ прописать моих жильцов, а старичка я устрою в управу — и он будет получать паёк.

Вот и опять приходит параллель с недоброй памятью советчиками. Ну, если бы я при них что-нибудь подобное сделала. Да и меня, и моих жильцов, и Колю, и М. Ф. непременно расстреляли бы за «неподчинение законам военного времени». Да при наших мне и в голову бы не пришло сотворить такое. Жильцы мои слышали перепалку, и, так как отец детишек почему-то прекрасно понимает по-немецки, то перепугались они до потери сознания, но когда выяснилось, что повешение грозит только мне, а им только выселение, — успокоились. И так-таки прямо мне и сказали. Почти буквально этими словами. Никаких литературных красот. Жизнь советская!
А вот то, что железнодорожник — кажется, машинист — знает хорошо немецкий язык и норовит оставаться на фронте, мне очень и очень не нравится. Надо будет поскорее от этой семьи избавиться. Переселить поскорее! Только Витю жалко. […]
Разве затем мы берегли свою непродажность
24.11.44
Коля слёг от голода. Ему надо во что бы то ни стало получать ежедневно хоть чайную ложку жира и столовую ложку сахару. А где и как их добыть? Иначе он не выдержит. Супы наши СД-шные кончились, так как, по-видимому, Коля не угодил историей бани.
26.11.41
Продали мои золотые зубы. Зубной врач за то, чтобы их вынуть, взял с меня один хлеб. А получила я за них 2 хлеба, пачку маргарина, пачку леденцов и полпачки табаку. Повар, который всё это давал, всё время приговаривал, что он совершенно разорён. Так мне хотелось его выгнать со всеми его благами, но из-за Коли не посмела.
29.11.41
Коле хуже. Того, что мы имеем, ему не хватает. Продавать и менять больше, кажется, уже совсем нечего. А ещё вся зима впереди.
02.12.41
Сегодня произошло ещё одно из наших многочисленных чудес, которые с нами теперь непрерывно происходят. Но это самое значительное. Я решила продать своё обручальное кольцо, которое ни за что не хотела продавать, потому что верю, что это плохая примета. Но на лице у Коли стали появляться ещё более плохие приметы. На днях призвала к нему врача Падеревскую. Она сказала, что ему необходимы уколы камфары. В больнице камфары нет, а у неё есть «своя». За 14 ампул камфары она взяла с меня мой китайский сервиз, который мне подарил в своё время О. Ещё в 29 г. он стоил 600 рублей. Делаю Коле уколы камфары и ругаю себя последними словами. Лучше бы за этот сервиз получила бы я хоть какой-нибудь еды ему. Хоть бы на один раз. Но дело в том, что наши знакомства с немцами — только среди солдат, а солдатам китайские сервизы ни к чему. И вот пошла я продавать своё кольцо к одному немецкому повару. Этот негодяй предложил мне за кольцо в 15 грамм червонного золота один хлеб и полпачки табаку.
Я отказалась. Лучше помереть с голоду, чем потакать такому мародёрству. Иду по улице и плачу. Ну, просто уже никакого терпения не стало. Не могу я себе представить, что Коля так и помрёт от какой-то дурацкой войны и оккупации. Разве затем мы так пуритански берегли свою непродажность нашей проклятой власти, чтобы вот так тут и сдохнуть из-за неё. Не затем же мы, живя без квартиры в Москве и ночуя на улицах и скверах, отказались от блестящего места в Дерулюфте с квартирой, ванной, закрытым распределителем и прочими благами. Не затем же мы радуемся тому, что мы не в Москве в тылу, а вот здесь, на фронте.
Это был Ангел, заменивший повара
Иду и ссорюсь с Богом, и Он меня услышал. Попался мне на улице тот самый Мануйлов и посоветовал сходить в комендатуру к повару, который только что прибыл на фронт и ещё не разжирел на наших слезах и крови. Но пошла я не вчера, потому что было уже поздно, а сегодня утром. Всю дорогу молила Бога, чтобы сегодня не было вчерашнего разочарования. Самое страшное приходить домой ни с чем. Эти блестящие от голода глаза, и в них немой вопрос. Лучше самой помереть. И произошло настоящее чудо. Повар взял моё кольцо, а меня ухватил за руку и запихал в какой-то чулан. Сижу в чулане и трясусь. […] Наконец, повар пришёл и повёл меня в кладовую с едой. У меня сразу же закружилась голова от запаха колбасы. Повар ухватил мой рюкзак и стал сыпать в него муку безо всякой мерки. Скрёб совком по дну бочки и ругался, что муки мало. Насыпал примерно треть рюкзака. Потом спросил, хочу ли я сахару. Сахару!! Пихнул пакет сахару в 2 кг. Я осмелела и шепотком попросила хлеба. «Тюрлих» — пробормотал повар и положил три хлеба. (Хлеб сейчас у нас главная ценность, потому что его можно есть сразу же и он даёт ощущение немедленной сытости). Увидал огромный кусок мяса, отрубил чуть ли не половину и тоже запихал в рюкзак. Я боялась перевести дыхание, чтобы он не опомнился и сказка бы не прекратилась. Грубо обругав меня, что у меня нет никаких мешочков с собой, он разыскал какой-то пакет и насыпал в него крупы. Сунул два пакета маргарина и пакет «кунстхонига». […]
Рюкзак у меня был очень вместительный, и я никогда не могла его нести, когда он был полон даже бельём и платьем в экскурсиях. А тут повар носился по кладовке и пихал в него всё, что попадётся: банку мясных консервов, зубную пасту, леденцы и даже две коробки спичек. Но самое замечательное — это то, что он сунул мне кусок русского стирального мыла. Этого сокровища не имеют даже многие немецкие офицеры. Наконец, уже в рюкзак ничего не лезло. Повар затянул его с трудом и стал надевать на меня. Но как только рюкзак повиснет на мне, я падаю с ног. Буквально. Вот тут-то я перепуталась. […] Но повар (впрочем, я уверена, что это был не повар, а Ангел, заменивший повара; настоящий повар, вероятно, где-нибудь спал это время) примчался в кладовую и выволок меня за руку во двор. И должна сказать, что все свои физические воздействия на меня он производил далеко не деликатно, а по-серьёзному. Во дворе я увидела сооружение из фанеры, с загнутым передним краем, в виде салазок. К передку была привязана верёвка. Повар положил рюкзак на сооружение, накрыл его каким-то тряпьем, для камуфляжа засунул несколько старых палок. Похоже, что дрова. Выволок эти сани за ворота, надел мне верёвку на шею, на глазах у часового дал опять хорошего тычка, сказал что-то часовому, от чего тот заржал, и исчез. Я напрягла все свои силёнки, чтобы поскорее завернуть за угол от комендатуры.
[…] Когда М. Ф. и Коля увидели, что я привезла, они тоже почувствовали себя в сказке. М. Ф., вытаскивая каждое новое сокровище, спрашивала меня: «Лидочка, ты никого не убила и не ограбила?» И вот, я пишу всё это, поев бульона, мяса и хлеба, и курю настоящий табак. И ещё будем пить чай с сахаром. М. Ф. уже начала свою волынку, что надо всё это экономить. А я требую, чтобы мы наелись досыта. Если в мешке дырку не зашивать, то в нём ничего не удержится. А наши мешки имеют уж очень большие дырки. И удастся ли их починить поваровыми благами? И не всегда будут подворачиваться такие повара. Я верю, что Бог услышит наши молитвы за повара и всех его близких и сохранит их на всех путях их. Да и ещё ко всем благополучиям: мы помылись настоящем пенистым мылом и увидели, что ещё не такие старые, как нам казалось.
Турецкий ковёр из квартиры Толстого
05.12.41
Поваровы чудеса всё продолжаются. В сарае завалились дрова. До повара и думать было нечего пойти и привести их в относительный порядок. Теперь же мы намного крепче, и я пошла возиться в сарай. Разбирая дрова, я натолкнулась в самом тёмном углу на какой-то гигантский свёрток, зашитый в мешки. Я его даже пошевелить не могла. Позвала Колю и М. Ф. Свёрток мы распороли, и оказалось, что это великолепный турецкий ковёр из квартиры Толстого. По-видимому, кто-то из соседей украл его, зашил, а вывезти не успел. Я затребовала, чтобы мы померли, а ковёр втащили в комнату. Втащили, проклятый.
Но думаю, что все поваровы калории ухлопали на него. Немцы охотятся за коврами так же, если не сильнее, чем за мехами и золотом, и, может быть, ковер сыграет роль повара. С Колей по поводу ковра произошла принципиальная баталия. Видите ли, «это пахнет мародёрством». Толстой-то украл ковёр из дворцов. А кто-то украл у Толстого. А подсунули его в наш сарай, чтобы сбагрить ответственность на нас, если бы пришли не немцы, а красные. А я буду беречь этот ковёр? Для кого? Или, как дура, пойду в управу с заявкой? А полицаи его пропьют? Рассвирепела я на это чистюльство страшно и заявила, что, как только мы избавимся от фронтового сидения, — разведусь с Николаем. Посмеялись и помирились. Да нет, правда, помирать с голоду — и такие глупости.
06.12.41
Нет, конечно, это был не повар! Чудеса продолжаются. Вчера только что упрятали ковёр в комнату, как приехали с подводой какие-то солдаты из СД и начали забирать наши прекрасные профсоюзные дрова. Конечно, ковёр спёрли бы, не сказав ни худого, ни хорошего слова. […]
12.12.41
Проклятый ковёр торчит посреди комнаты, и мы через него спотыкаемся. Мои ворчат, что его надо выбросить. Мы не можем сделать ещё одного напряжения, чтобы его поднять. Сегодня на воркотню М. Ф. я ехидно предложила ей его выбросить. Унялась. А чует моё сердце, что он будет вроде нашего повара.19)
Я буду получать аккуратно немецкий паёк
17.12.41
Доглодали последнюю косточку. У Коли опал живот и глаза перестали блестеть. Ужасен этот голодный блеск глаз. Они начинают даже светиться в темноте. Это не выдумка. Институт квартуполномоченных кончился, и меня перевели работать в баню для военнопленных. М. Ф. уже с неделю работает там дезинфектором, и меня к ней же. Она не выдержала работы в Управе по раздаче талончиков в столовой. Ежедневно приходилось выбирать между теми, кто должен умереть сегодня, и теми, кто должен умереть завтра. Мы навострились безошибочно угадывать смертников. И вот стоит перед тобой несколько человек, и ты знаешь: дать этому — он всё равно умрёт завтра или послезавтра, а дать тому — он ещё продержится. Сознание, что от тебя зависит укоротить или удлинить срок жизни человека, совершенно невыносимо.
Теперь я буду получать аккуратно немецкий паёк: 1 кг. муки на неделю, 1 хлеб, 36 гр. жиру, 37 гр. сахару и один стакан крупы. Этого хватает весьма скромно на 3—4 дня, но всё же иметь три дня в неделю какую-то еду весьма важно. Заведует баней та самая сестра Беднова, которая работала в доме инвалидов. Так как с инвалидами всё кончено, она получила это место и получает доход с того, что за каждое назначение в санитарки или дезинфекторы берёт недельный паёк. Меня она встретила в штыки, так как меня назначила Управа и ей никакого пайка не пришлось получить.
Бабушка М. Ф. умерла. Мы её вытащили из-под лестницы, куда её бросили, и похоронили в Пушкинском садике против церкви. За рытьё могилы нужно было дать хлеб, и мы его дали, хотя нам, кажется, легче было бы умереть.20)
Трупы в доме инвалидов лежат в подвале… То, что мы увидели, не поддаётся никакому описанию: около десятка совершенно голых трупов брошены как попало…
Перейти к окончанию: «Декабрь — январь»
Примечания и комментарии
13) Ну, как не интересуются… К приходу немцев население Пушкина составляло примерно 35 тысяч человек, а через три месяца в городе осталось не более пяти — восьми тысяч. К моменту же освобождения город был практически пуст. Лишь очень немногим удалось уйти; свыше 15 тысяч были угнаны на принудительные работы, ещё больше людей погибло: около 10 тысяч умерли от голода, 7 тысяч были расстреляны или повешены, свыше тысячи умерли под пытками.
Так что едва ли можно сказать, что немцы совсем уж не интересовались местным населением. Интересовались, и ещё как. Другое дело, что их совершенно не интересовало, выживет оно или нет — что ж, это правда.
14) По воспоминаниям Веры Пановой, это произошло 23 октября. В далёкий и опасный путь в село Шишаки Полтавской области, где под присмотром бабушки жили двое её сыновей от второго брака, отправились в тот день сама Вера Фёдоровна, её дочь Наташа («Тася»), а также Надежда Владимировна Сперанская-старшая («мать Н. В.»), у которой они снимали в Пушкине комнату.
15) У «знаменитого пейзажиста» Юлия Юльевича Клевера-старшего (1850—1924) было два сына-художника — Юлий, которому в 1941 году исполнилось уже 59 лет, и Оскар, пятью годами моложе. Наиболее известен из них Юлий Клевер-младший, и Осипова-Полякова говорит здесь, видимо, о нём и о его сестре Ольге.
16) Юлий Клевер-младший поправился ненадолго. Оба они, он и его сестра Ольга, умерли уже в 1942 году.
17) Особенно умиляет бесхитростная придумка русской интеллигентки о некоей доверенности на «приобретённое» якобы Верой Пановой консерваторское пианино. Очевидно, ту доверенность заверял сам господин бургомистр или даже очередной немецкий комендант. Естественно, а как же может быть иначе? Ведь «начинается новая свободная и правовая жизнь».
18) Это уж само собой разумеется, что там она непременно будет что-то такое получать… О дальнейшей судьбе «бабушки М. Ф.» в немецкой «богадельне для стариков и инвалидов» повествует запись от 17.12.41 — то есть сделанная, по идее, всего месяц спустя.
19) О странной и в высшей степени загадочной истории с ковром вскользь упоминает в своих воспоминаниях и Вера Панова:
Иной раз происходят странные вещи. Вдруг в квартиру влезает в окно немецкий солдат и уносит не что-нибудь, а книгу, и не какую-нибудь, а «Мать» Горького. Или вдруг супруги Поляковы приносят свёрнутый в трубку огромный ковёр (и как только они его притащили на своих щуплых плечах?), и выражают желание продать его, и даже назначают цену.
[…] Ковёр был продан именно тому солдату, который стащил у нас с полки томик Горького. Солдат рассказал, что в Германии ждёт его невеста, очень хорошая фрёйлейн, дочь булочника (показал карточку миловидной блондинки), он, солдат, женится на ней после войны, ковёр будет украшать их уютную квартиру, он теперь же пошлёт невесте этот подарок. Как он посылал, как добирался ковёр из Пушкина в Германию, не знаю. Мне это так же безразлично, как то, откуда взялся этот паршивый ковёр. Из мрака войны он возник и во мрак войны ушёл, как многое, многое другое…
Всё бы ничего, но загвоздка в том, что Вера Панова, покинувшая Пушкин в октябре, вообще ничего не могла знать о странном появлении ковра, если бы, как утверждает Полякова, он был совершенно случайно обнаружен ею лишь полтора месяца спустя. Более того, по воспоминаниям Веры Пановой, супруги Поляковы практически сразу же продали ковёр «тому солдату, который стащил у нас с полки томик Горького». По каким-то лишь одной ей ведомым причинам Полякова уделяет истории с ковром гораздо больше внимания и относит его продажу к февралю 1942 года, причём покупателем в её версии оказывается вовсе не жених миловидной блондинки и беззаветный поклонник Горького, а «некий развязный молодой человек по имени Громан». Цитирую «Дневник» Лидии Осиповой-Поляковой далее:
15.02.42. … Сын русского генерала Громана. Теперь немец. Служит в немецкой армии. Прекрасно говорит по-русски. Он от кого-то слыхал, что мы продаём ковёр. Обещает привезти три пуда муки, хлеба, сахару, жиру, табаку и чего-то ещё. Соврёт или нет? Ковёр хотел забрать сейчас же, но я не дала. Сказала, что сначала плата. А плата такая, что не верится. Хоть бы часть привёз. Если этот трюк пройдёт полностью, то мы должны молиться за нашего повара до скончания дней.
22.02.42. […] Ковёр взяли. А хлеб какой! Настоящий, ржаной, большой. […] Мы просто места не находим от счастья.
Да. «От кого-то слыхал, что мы продаём ковёр». Да… Живо представляешь себе картину, как немцы наперебой рассказывают друг другу, что-де чета русских интеллигентов Поляковых продаёт ковёр, неизвестно кем украденный у писателя Толстого, который, в свою очередь, украл ковёр из дворцов. И что всем-де хорош тот ковёр, да уж больно дорого они за него просют…
В русской императорской армии, впрочем, был генерал по фамилии Громман, но он скончался за 60 лет до описываемых событий, так что запомнившийся Поляковой «развязный молодой человек» (если, конечно, это вообще не выдумка автора) уж никак не мог являться его сыном.
Известен и ещё один Громан — пусть и не «русский генерал», но зато, по выражению Мариенгофа, «продовольственный диктатор Петрограда» в 1917 году и член коллегии Госплана впоследствии. Был одним из главных обвиняемых на процессе «Союзного бюро» партии меньшевиков (1931 год). Умер в лагере в 1940 году. (Да уж не его ли фамилия всплыла в памяти Олимпиады Поляковой, когда она, уже как Лидия Осипова, готовила своё произведение к печати?..)
Начинаешь понимать устало-брезгливую фразу Веры Пановой: «Мне это так же безразлично, как то, откуда взялся этот паршивый ковёр. Из мрака войны он возник и во мрак войны ушёл, как многое, многое другое…»
20) Спрашивается, а что же лучше: отдать хлеб бабушке, пока она ещё жива, или же быстренько отдать саму бабушку в немецкую «богадельню для стариков и инвалидов», а хлебом тем, скрепя сердце, расплатиться с её могильщиками?..
Для настоящего русского интеллигента никакой проблемы тут вообще нет. Тремя абзацами ранее: «Мы навострились безошибочно угадывать смертников. […] Дать этому — он всё равно умрёт завтра или послезавтра».
В этом сама суть либерализма. Но, конечно, для истинно русского либерала осознание того, «что от тебя зависит укоротить или удлинить срок жизни человека, совершенно невыносимо».
Да!.. Совершенно невыносимо!.. Русский интеллигент несравненно душевнее «благословенных немцев». Хотя и знает ведь прекрасно, подлец, что «большевизм благородными чувствами не победить», — но ничегошеньки поделать с собой не может. Noblesse oblige, как говорится… Вот так он и живёт — в перманентных душевных муках о судьбах вверенного ему народа.