О, если бы я только мог Хотя отчасти, Я написал бы восемь строк О свойствах страсти… Я вывел бы её закон, Её начало, И повторял её имён Инициалы.
(Борис Пастернак)
С. Е. «Года-Любовь». Я там себя узнал, В твоём наброске. Или же ошибся? Но тот обломок гипса Меня напоминал.  |
Нет, он скорей напоминал тебя тех лет,
Когда писала, надышав на гладь стекла,
Прощальный бред.
Разлукам не было числа.
Я не любил тебя,
Как сорок тысяч братьев.
Томился, не любя.
И полюбил, утратив.
Я виноват, что не хотел тебя лепить
И что твоим страстям тебя я продал в рабство,
Что, не умев любить,
Поверил поцелуям братства.
«Года-Любовь». Года, любовь и боль,
И память всё смиренней.
Лишь слышны отзыв и пароль
Двух судеб, двух стихотворений.
80-е гг.
|
«Во всём мне хочется дойти до самой сути…»
«Я влюблён почти всегда и почти никогда — люблю», — написал в дневнике Давид Самойлов. «Нелюбовь», «притворство несуществующей любви», разбросанные по текстам многих его стихотворений, — вот что занимало моё воображение…
И вдруг это стихотворение, опубликованное в журнале «Знамя» (2003, № 10). «Года-любовь» — словосочетание, заключённое в кавычки — это ведь не цитата, это ведь наверняка название! Женщина, которая тоже пишет стихи, женщина, чьи инициалы поддаются расшифровке. Это ведь не рассеянная женственность, как определял присутствие женщин в лирике отца его сын Александр. «Я зарастаю памятью, как лесом зарастает пустошь…». И тоже инициалы… Да где же это столь любимое многими стихотворение?.. Нет, там — Е. Л.
Ищу в Интернете, ищу в списках поэтов. Елена Скульская? Поэтесса, была знакома с Самойловым в те годы, когда он жил в Пярну. Нет, другое поколение, иной стиль общения, судя по интервью, и… перевёрнутые инициалы — Е. С.
Всё время схватывая нить Судеб, событий, Жить, думать, чувствовать, любить, Свершать открытья…
Этот фрагмент из стихотворения Пастернака мог бы стать моим девизом в гербе, будь он у меня. И я ищу дальше, ищу в воспоминаниях друзей, в комментариях к дневниковым записям Давида Самойлова.
Что ж, на этот раз мои поиски увенчались успехом очень быстро. Разгадка инициалов или всё же версия?..
Заметки Георгия Ефремова о Давиде Самойлове («Жёлтая пыль») можно прочитать в журнале «Дружба Народов», 2003, № 10—11. (Примечание. Георгий Ефремов родился в 1952 году — годом раньше Александра, старшего сына Давида Самойлова от первого брака. Поэт, переводчик, прозаик, драматург, публицист.)
Начало 1986 года, а по включению в ситуацию Георгия Ефремова — конец марта, когда тот навестил Давида Самойлова в Пярну.
Это был очень сложный период в жизни поэта, отравленный ревностью, связанной с женой Галиной. В это время он пишет цикл стихотворений, названный по одному из них — «Беатриче». Сюда же относится и «Не для меня вдевают серьги в ушки…».
Обратимся к Заметкам:
«Самойловы очень просят, чтобы ты приехал». Я позвонил и понял: надо спешить…
… С утра Д. С. показал и попросил напечатать баллады. Я машинально стучал по клавишам. Вышли на воздух.
— Как тебе «Беатриче»?
Я сказал приблизительно то, что думал: это шифровка, ключ к которой сознательно искажён.
— Не исповедь, не проповедь? А ты считаешь, что об этом можно сказать прямее? Пробовал — не выходит. Вообще-то сейчас мне кажется, это стихи о том, как я её люблю. Я ведь многие годы думал: вот повезло — встретил бабу, с которой могу говорить! Дни и ночи! Знаешь — так и не надоело. Жизнь ушла на то, чтобы её привязать, приковать, чтобы была — моя. И тоже — не получилось. Дело не в том — изменила она, целовала кого-то, дошла до всего или нет. Ну не было этого, ладно. Но ведь она уже отвернулась, она отвлеклась! Я давно для неё не цель, не главное в её сердце. Кто-то, что-то стало важнее. Пусть не тот человек. Но — её страсть по нём. Её свобода и право любить — и не любить. А я остался один — в старости, в безобразии, в страхе. Страх! Я так никогда не боялся, и так одиноко мне никогда ещё не было…
— Я бывал мерзок с женщинами. Но я нормален. Я просто хотел — и порой добивался, чего хотел. И ничего мне другого не было нужно. А она… Она нарочно бунтует, она любовь превратила в мятеж. Она хочет чего-то добиться, а я не знаю — чего. Растоптать меня?..
— А у меня: даже помысел не обо мне — уже отречение.
— Всё время думаю: мог ли я быть так долго с другой? Или с таким тяготеньем к другой? Кто она — та другая? Анна? Светлана?.. Нет. Ничего бы не вышло. Правда, и тут ничего не вышло…
Возле обоих женских имен стояли ссылки на примечания к тексту. И вот!
Светлана Георгиевна Евсеева (р. 1932) — поэт. Живёт в Минске. Ей посвящено стихотворение «Алёнушке» (1960).
Судя по всему, речь идёт именно об этом стихотворении. И прощание, о чём дальше, и образ «братца» («Что, не умев любить, поверил поцелуям братства…»). Что ж, пусть тогда стихотворение «братца» будет проиллюстрировано портретом сказочной «сестрицы». А вдруг я права в своём предположении об инициалах?
 |
Алёнушка
Когда настанет расставаться —
Тогда слетает мишура…
Алёнушка, запомни братца!
Прощай — ни пуха ни пера!
Я провожать тебя не выйду,
Чтоб не вернулась с полпути.
Алёнушка, забудь обиду
И братца старого прости.
Твоё ль высокое несчастье,
Моя ль высокая беда?..
Алёнушка, не возвращайся,
Не возвращайся никогда.
|
Всё сошлось — С. Е., которая пишет стихи! Загадка инициалов разрешилась. Осталось одно — найти «Года-Любовь». Ведь что говорит Давид Самойлов?
Лишь слышны отзыв и пароль Двух судеб, двух стихотворений.
Увы, это оказалось невозможно. А вот почему — читайте дальше.
«Inter arma tacent musae»
У высоких берёз своё сердце согрев, Унесу я с собой, в утешенье живущим Твой заветный напев, чудотворный напев, Беловежская пуща, Беловежская пуща…
 Контекстный поиск по имени Светлана Евсеева и названию (?) стихотворения «Года-Любовь» дал мне очень мало. А информация заставила ещё раз задуматься о последствиях разрушения нашей общей страны, формально освящённого в Беловежской Пуще подписями Ельцина-Кравчука-Шушкевича, не только для культуры в целом, но и для судеб отдельных её творцов. Я уже писала раньше о состоянии русскоязычной поэзии в моём родном городе, на Украине, в очерке «Я живу с ними в одном городе». А теперь волею случая, любовью к стихам Давида Самойлова, мы с вами окажемся в постсоветском Минске — именно там живёт «Аленушка».
Контекстный поиск по имени Светлана Евсеева и названию (?) стихотворения «Года-Любовь» дал мне очень мало. А информация заставила ещё раз задуматься о последствиях разрушения нашей общей страны, формально освящённого в Беловежской Пуще подписями Ельцина-Кравчука-Шушкевича, не только для культуры в целом, но и для судеб отдельных её творцов. Я уже писала раньше о состоянии русскоязычной поэзии в моём родном городе, на Украине, в очерке «Я живу с ними в одном городе». А теперь волею случая, любовью к стихам Давида Самойлова, мы с вами окажемся в постсоветском Минске — именно там живёт «Аленушка».
Уместно будет вспомнить ещё об одной замечательной молодой поэтессе, Илине Ланте (в миру — Елене Казанцевой). Я о ней тоже писала раньше. А ведь она и в самом деле Алёнушка! Просияв на поэтическом небосклоне, точнее, на всех сайтах любителей поэзии в Интернете, несколько лет, она исчезла из всемирной паутины, и пишет ли стихи, неизвестно.
Но вернёмся к нашей героине.
Светлана Георгиевна Евсеева родилась в Ташкенте, закончила Литературный институт им. Горького в Москве, переехала в Минск, пишет на русском языке, переводит с белорусского. Кто-то назвал её «не столько русским, сколько белорусским поэтом, пишущим на русском языке», и это вызвало очень знаковые для нашего времени последствия.
Некто Елена Спасюк (по иронии судьбы, с перевёрнутыми относительно нашей героини инициалами) на сайте «Белорусские новости» за 21 марта 2007 года опубликовала статью «Теперь и с русской литературы одеяло тянут на идеологию?»:
… Пока общественность обсуждала возможные изменения в школьной программе по белорусской литературе, стало известно, что некоторые белорусские авторы нашли себе место даже в программе русской (!) литературы…
События развиваются по сценарию, который уже становится привычным. Тихо, без информирования общественности, в программу включены те, кто, по мнению чиновников, достоин просвещать умы наших детей вкупе с Евгением Евтушенко и Робертом Рождественским, Василием Шукшиным и Владимиром Высоцким. Gazetaby.com называет в их числе Николая Чергинца, Анатолия Аврутина, Валентину Поликанину и Светлану Евсееву (это про неё В. Некляев сказал «переехавшая из Москвы в Минск, довольно скоро стала не столько русским, сколько белорусским поэтом, пишущим на русском языке»).
… Память услужливо подсказывает имена многих «прижизненных классиков», которые были напрочь забыты и исчезли из школьных программ, как только изменилась «политика партии». Хорошо ещё, если иной «классик», как булгаковский поэт Иван Бездомный, вовремя поймёт, что стихи его — чудовищны, и озаботится спасением собственной души…
И опять такие знакомые мне мотивы — до боли знакомые по собственной стране. И это, увы, не «чудотворные напевы» Беловежской пущи в исполнении до сих пор очень любимых «Песняров», а цитата из сайта Таварыства беларускай мовы iмя Францiшка Скарыны:
… Собственно, талантливого художественного слова на презентации [альманаха «Немига литературная» — Палома] звучало мало. Имён достойных тоже не обнаружилось. Разве что поэтесса (опять-таки в прошлом) Светлана Евсеева читала свои экзерсисы о любви к Москве и, соответственно, нелюбви к не-Москве — в качестве «экспоната» советских литературных кругов…
Много говорилось о неприятии белорусскими деятелями искусства всего, что создаётся сегодня в Минске на русском языке. Однако очевидна обратная сторона явления: именно махровая неприязнь русскоязычных творцов к своим белорусским собратьям по цеху и желание кричать о якобы «опускании» теми всего русскоязычного, помноженные на государственную политику принижения белорусского языка, вынуждают писателей и издателей-белорусов (белорусов по духу) открещиваться от русскоязычного культурного пространства, попросту таким образом защищаясь от его имперской претенциозности… Міра Феербах, газета «День» 31.01.02 г.
Вот так и не иначе. «Так не доставайся же ты никому!»
В одном из интервью Тамара Жирмунская говорила о начале своей творческой жизни:
… Успех был весьма относительный. Рядом со мной работали и стяжали славу среброгорлые Римма Казакова, Новелла Матвеева, Инна Лиснянская, Светлана Евсеева, Белла Ахмадулина, Юнна Мориц, совсем юные Инна Кашежева и Татьяна Кузовлева…
Тамара Жирмунская — автор десяти книг стихов и прозы, член Союза писателей Москвы и Русского ПЕН-центра, лауреат премии СПМ «Венец» (в номинации поэзия). С 1999 года живёт в Мюнхене.
Быть причисленной к сонму самых талантливых женщин-поэтов, быть упомянутой в одном литературном кругу с самыми звучными именами начала оттепели (тем же Булатом Окуджавой), публиковаться в «толстых» советских журналах (например, в журнале «Знамя» за 1964 год печатались её «Декады. Пречистый город и другие стихи») и… оказаться выброшенной на обочину литературного процесса в стране Беловежских соглашений, в стране, позиционирующей себя в качестве наиболее близкого России соседа!
Эдуард Шнейдерман, пишущий о русском поэте Николае Рубцове, рассказывал:
… Восхищала его (Николая Рубцова) и впрямь колдовская — и ритмически, и звуково — строчка Светланы Евсеевой «тишина на наволочке» — лучшая строка её первого сборника…
На сайте «Библус» зарегистрировано три книги Евсеевой, изданные в Минске, соответственно, в 1988, 1982, 1983 гг., — «Ищу человека», «Женщина под яблоней», «Последнее прощание».
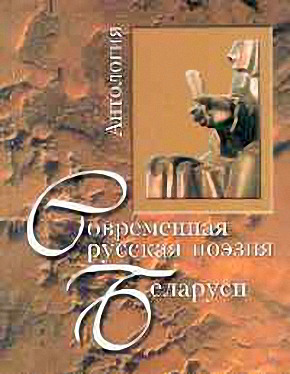 По свидетельству поэта, члена белорусского и российского писательских Союзов Анатолия Аврутина, главного редактора «Немиги литературной» — единственного «толстого» журнала в Беларуси, целиком посвящённого творчеству литераторов, пишущих на русском языке, «и сегодня в Минске в полнейшей бедности прозябает блистательная Светлана Евсеева». Так утверждал А. Аврутин в мае 2003 года.
По свидетельству поэта, члена белорусского и российского писательских Союзов Анатолия Аврутина, главного редактора «Немиги литературной» — единственного «толстого» журнала в Беларуси, целиком посвящённого творчеству литераторов, пишущих на русском языке, «и сегодня в Минске в полнейшей бедности прозябает блистательная Светлана Евсеева». Так утверждал А. Аврутин в мае 2003 года.
Несколько лет назад в Минске вышла составленная Анатолием Аврутиным «Антология современной русской поэзии Белоруссии» (222 имени поэтов).
Выражая озабоченность положением русскоязычных писателей и поэтов, Аврутин опять упомянул Светлану Евсееву. По его словам, Антология вызвала сенсацию — но не в Белоруссии, а в Российской Федерации.
Вот такая печальная ситуация… В Интернете стихотворений Светланы Евсеевой нет, книги, изданные в Беларуси, мне недоступны, так что вопрос Давида Самойлова — «„Года-Любовь“. Я там себя узнал, в твоём наброске. Или же ошибся?» — остаётся пока без ответа.
В заключение хочу предложить читателям два её стихотворения из трёх, опубликованных в журнале «Новый мир», № 12, 1988 год. В Интернете есть только содержание номера, а вот сам «бумажный» журнал стоит на моей книжной полке, и я с удовольствием им воспользуюсь. О ком и о чём в этих строчках?.. А вдруг именно о том, о чём мой очерк!
Память
Все поделки изъедены ржою.
Тлен не взял у меня серебра.
Я была разнесчастной женою,
Пресчастливой влюблённой была.
Я ли хрупкого телосложенья?..
Это я ли дышала едва?..
Всё, чем гибла,
во мне — для забвенья,
А для памяти — всё, чем жила.
Память — жизни дыханье и сила
И столицы — родные черты.
Тень моя до сих пор не остыла,
Где мы с нею бывали на «ты».
Где боролись успешно с азотом
И бульвары, и скверы в цвету…
Где любовь, там опора для взлёта,
Где безлюбье — удар в пустоту.
Время новое. Новая смена.
Смена сердца? — язык запчастей.
Наша юность ещё современна,
Потому что мы помним о ней.
|
Не уходи!
Не уходи!
От рёбер вздоха требуй,
Ещё твой дух не завершил свой труд.
Не уходи!
Ещё земля ждёт неба,
Не уходи, ещё сады цветут!
Ещё пока я чудом принимаю
Твой тихий свет ко мне издалека…
О свете тихий,
я тобой пылаю,
Не уходи за тучи-облака!
Когда сомлеет день от урожая,
Не уходи глазами на закат,
Но оглянись и укрепись, вкушая
И пышный хлеб, и жаркий виноград.
Ещё дрожат слова, мои подростки,
И просятся к тебе в тепло, на чай…
Не уходи
под белые берёзки,
От слов моих
себя не заземляй!
|
Палома, апрель 2007 года