(Окончание статьи. Перейти к предыдущей части)
[…] Марина Цветаева, стихотворение «Тоска по родине» (3 мая 1934 года):
Тоска по родине! Давно Разоблачённая морока! Мне совершенно всё равно — Где совершенно одинокой Быть, по каким камням домой Брести с кошёлкою базарной В дом, и не знающий, что — мой, Как госпиталь или казарма. Мне всё равно, каких среди Лиц ощетиниваться пленным Львом, из какой людской среды Быть вытесненной — непременно — В себя, в единоличье чувств. Камчатским медведём без льдины Где не ужиться (и не тщусь!), Где унижаться — мне едино. Не обольщусь и языком Родным, его призывом млечным. Мне безразлично — на каком Непонимаемой быть встречным! | (Читателем, газетных тонн Глотателем, доильцем сплетен…) Двадцатого столетья — он, А я — до всякого столетья! Остолбеневши, как бревно, Оставшееся от аллеи, Мне все — равны, мне всё — равно, И, может быть, всего равнее — Роднее бывшее — всего. Все признаки с меня, все меты, Все даты — как рукой сняло: Душа, родившаяся — где-то. Так край меня не уберёг Мой, что и самый зоркий сыщик Вдоль всей души, всей — поперёк! Родимого пятна не сыщет! Всяк дом мне чужд, всяк храм мне пуст, И всё — равно, и всё — едино. Но если по дороге — куст Встаёт, особенно — рябина… |
Слово и музыка
Первым, кто высказал идею сделать марш Василия Агапкина новым гимном России, был Иосиф Бродский. Мстислав Ростропович, по его просьбе, даже хотел уговорить на это президента Ельцина. Поддержали эту идею и Григорий Явлинский, и генерал Лебедь, и многие другие. В российской Думе всерьёз обсуждался вопрос о «Прощании славянки» в качестве государственного гимна Российской Федерации.
Вполне возможно, что этот марш могли бы и принять в качестве гимна, но возникла проблема текста. Тот, который предлагали «яблочники», вызвал неприятие у многих. Хотя текст можно было бы подобрать и другой. Вот о различных его вариантах и пойдёт сейчас речь.
Самые ранние русскоязычные тексты относятся к периоду Первой мировой войны и Гражданской войны.
«По неровным дорогам Галиции…» (1914—1915 годы):
По неровным дорогам Галиции,
Поднимая июльскую пыль,
Эскадроны идут вереницею,
Приминая дорожный ковыль.
Прощай, Россия-мать!
Уходим завтра в бой.
Идём мы защищать
Твои границы и покой!
Раскалённые жерла, фонтаны огня,
В наступленье идёт эскадрон.
По траншеям, позициям, вражьим тылам
Раздаётся наш сабельный звон.
«Песня добровольцев Студенческого батальона» (1914—1915 годы, Гражданская война — Белая Добровольческая армия):
Вспоили вы нас и вскормили,
Отчизны родные поля,
И мы беззаветно любили
Тебя, Святой Руси земля.
Теперь же грозный час борьбы настал,
Коварный враг на нас напал,
И каждому, кто Руси сын,
На бой с врагом лишь путь один.
Приюты наук опустели,
Все студенты готовы в поход.
Так за Отчизну, к великой цели
Пусть каждый с верою идёт.
Мы дети отчизны великой,
Мы помним заветы отцов,
Погибших за край свой родимый
Геройскую смертью бойцов.
Пусть каждый и верит, и знает:
Блеснут из-за тучи лучи,
И радостный день засияет,
И в ножны мы вложим мечи.
С небольшими изменениями тот же самый текст пели и в «Сибирском марше» (1914—1915 годы, Гражданская война — Сибирская Народная армия):
Вспоили вы нас и вскормили,
Сибири родные поля,
И мы беззаветно любили
Тебя, страна снега и льда.
Теперь же грозный час борьбы настал,
Коварный враг на нас напал,
И каждому, кто Руси сын,
На бой с врагом лишь путь один.
Мы жили мечтою счастливой,
Глубоко Тебя полюбив,
Благие у нас все порывы,
Но кровью Тебя обагрим.
|
Сибири поля опустели,
Добровольцы готовы в поход.
За край родимый, к заветной цели,
Пусть каждый с верою идёт, идёт, идёт.
Мы знаем, то время настанет,
Блеснут из-за тучи лучи,
И радостный день засияет,
И вложим мы в ножны мечи.
Теперь же грозный час борьбы настал,
Борьбы за честь, борьбы за светлый идеал,
И каждому, кто Руси сын,
На бой кровавый путь один.
|
А в советское время создалась традиция провожать под звуки «Прощания славянки» отходящие с вокзалов поезда. В наши дни эта традиция сохраняется в Симферополе, Севастополе, Феодосии, Архангельске, Ульяновске, Курске, Воронеже, Пензе, Харькове, в Орле, Белгороде, Ижевске, Кирове, Перми, Владивостоке, Тамбове…
«Славянка» стала настоящим «перронным маршем» для десятков поездов и пароходов в разных городах бывшего Советского Союза.
Следующий текст был написан Аркадием Федотовым летом 1965 года (опубликован в 1967 году в московском репертуарном сборнике «Да здравствует наша держава!»):
Этот марш не смолкал на перронах, Когда враг заслонял горизонт. С ним отцов наших в дымных вагонах Поезда увозили на фронт. Он в семнадцатом брал с нами Зимний, В сорок пятом шагал на Берлин. Поднималась с ним в бой вся Россия По дорогам нелёгких годин. |
И если в поход
Страна позовёт,
За край наш родной
Мы все пойдём в священный бой!
Шумят в полях хлеба,
Шагает Отчизна моя
К высотам счастья,
Сквозь все ненастья
Дорогой мира и труда.
|
Несколько позже, в 1983 году, поэт Владимир Лазарев написал ещё один вариант текста — очень живой и трогательный:
Наступает минута прощания,
Ты глядишь мне тревожно в глаза,
И ловлю я родное дыхание,
А вдали уже дышит гроза.
Дрогнул воздух, туманный и синий,
И тревога коснулась висков,
И зовёт нас на подвиг Россия,
Веет ветром от шага полков.
Прощай, отчий край,
Ты нас вспоминай,
Прощай, милый взгляд,
Прости-прощай, прости-прощай.
Летят, летят года,
Уходят во мглу поезда,
|
А в них солдаты, и в небе тёмном
Горит солдатская звезда.
Прощай, отчий край,
Ты нас вспоминай,
Прощай, милый взгляд,
Не все из нас придут назад…
Лес да степь, да в степи полустанки,
Повороты родимой земли.
И, как птица, «Прощанье славянки»
Всё летит и рыдает вдали.
Нет не будет душа безучастна —
Справедливости светят огни.
За Любовь, за великое братство
Отдавали мы жизни свои.
|
Владимир Яковлевич Лазарев, живущий ныне далеко от России, в Калифорнии, приводит в своём письме любопытные подробности того, как создавался его вариант текста. По его словам, в тексте своём он стремился передать подлинную атмосферу того времени, когда был написан марш: «Это единственный текст такого рода, все остальные в том или ином виде включают злободневные идеологические мотивы».
Первая публикация состоялась в 1983 году в одном из сборников «День песни», вышедшем под редакцией самого Лазарева (издательство «Советский композитор»). Владимир Лазарев вспоминает:
«Но цензура не пропустила кульминационные строки стихов:
Овевает нас Божие слово, Мы на этой Земле не одни И за братьев, за Веру Христову, Отдавали мы жизни свои.
Пришлось, сохраняя смысл, написать следующее:
Нет не будет душа безучастна — Справедливости светят огни. За Любовь, за великое братство Отдавали мы жизни свои.»
Текст Владимира Лазарева, опубликованный в сборнике «День песни», был затем воспроизведён тамбовским журналистом и краеведом В. К. Степановым во втором издании его книги «Неувядаемый марш» (Воронеж, 1984 год).
Одну из своих песен («Походный марш») написал на мелодию «Славянки» Александр Галич:
Снова даль предо мной неоглядная,
Ширь степная и неба лазурь.
Не грусти ж ты, моя ненаглядная,
И бровей своих тёмных не хмурь!
Вперёд, за взводом взвод,
Труба боевая зовёт!
Пришёл из Ставки
Приказ к отправке —
И, значит, нам пора в поход!
В утро дымное, в сумерки ранние,
Под смешки и под пушечный бах
Уходили мы в бой и в изгнание
С этим маршем на пыльных губах.
|
Не грустите ж о нас, наши милые,
Там, далёко, в родимом краю!
Мы всё те же — домашние, мирные,
Хоть шагаем в солдатском строю.
Будут зори сменяться закатами,
Будет солнце катиться в зенит
— Умирать нам, солдатам, солдатами,
Воскресать нам — одетым в гранит.
Вперёд, за взводом взвод,
Труба боевая зовёт!
Пришёл из Ставки
Приказ к отправке —
И, значит, нам пора в поход!
|
В последние годы довольно широкое распространение получила песня «Встань за веру, русская земля!», написанная на мелодию «Славянки» Андреем Мингалёвым, одним из ведущих актёров Иркутского театра народной драмы:
Много песен мы в сердце сложили,
Воспевая родные поля.
Беззаветно тебя мы любили,
Святорусская наша земля.
Высоко ты главу поднимала,
Словно солнце твой лик воссиял,
Но ты жертвою подлости стала,
Тех, кто предал тебя и продал.
И снова в поход
Труба нас зовёт!
Мы вновь встанем в строй
И все пойдём в священный бой!
| Ждёт победы Россия-святыня, Отзовись, православная рать: Где Илья твой и где твой Добрыня? Сыновей кличет Родина-мать. Все мы — дети великой державы, Все мы помним заветы отцов: Ради знамени, чести и славы Не жалей ни себя, ни врагов. Встань, Россия, из рабского плена, Дух победы зовёт, в бой пора! Подними боевые знамена Ради правды, красы и добра. |
Исполняет Татьяна Петрова (скачать)
Нетрудно заметить, что при написании своего текста Андрей Викторович Мингалёв в значительной степени опирался на текст упомянутой выше «Песни добровольцев Студенческого батальона». Сравните (текст Мингалёва — справа):
… Отчизны родные поля, И мы беззаветно любили Тебя, Святой Руси земля. … Мы дети отчизны великой, Мы помним заветы отцов… | … Воспевая родные поля. Беззаветно тебя мы любили, Святорусская наша земля. … Все мы — дети великой державы, Все мы помним заветы отцов… |
Может быть, ещё и поэтому многие считают, что песня «Встань за веру, русская земля!» была написана в годы Первой мировой войны или, по крайней мере, в Гражданскую. Например, Станислав Минаков в статье «„Славянка“ — не прощается» уверенно пишет следующее:
Первым русским текстом «Прощания славянки», полагаем, следует считать слова А. Мингалёва «Встань за Веру, Русская Земля!», в годы Гражданской войны распевавшиеся в рядах Белой гвардии, в частности, в войсках Александра Колчака, что и стало причиной запрета марша в первые советские десятилетия…
Здесь всё является выдумкой: и «первый текст», и Белая гвардия, и Колчак, который Александр. А. В. Мингалёв написал свой текст в 1990-е годы, тогда же песня «Встань за веру, русская земля!» была исполнена впервые. И никакого запрета «Славянки» тоже не было — подробнее об этом будет сказано далее.
Существует немало песен на мелодию «Прощания славянки», тексты которых написаны и на других языках помимо русского. Вот лишь некоторые из них.
Вероятно, самая ранняя из таких песен — «Vapaa Venäjä (Free Russia)», которую в ноябре 1924 года на финском языке исполнил Отто Пикконен (грамзапись Columbia 105280):
Песня «Rozszumiały się wierzby płaczące» («Расшумелись плакучие ивы»), первоначальный польский текст которой в 1937 году написал Роман Шлензак. Во время войны эта песня была очень популярна среди польских партизан.
Исполняет Павел Прокопени (грамзапись Simfonia 500-A):
Следующая песня на мелодию «Славянки» исполняется на иврите:
А вот эту инструментальную версию марша «Прощание славянки» записал в 1986 году (под названием«Slawianka») оркестр пограничных войск Германской Демократической Республики. Долгоиграющая пластинка с этой записью была выпущена к 40-летию пограничных войск ГДР:
Второе дыхание
Открытым и дискуссионным остаётся как вопрос о том, существовал ли в Советском Союзе (до 1956 года, до появления фильма «Летят журавли») запрет на публичное исполнение марша «Прощание славянки», так и факт его исполнения во время парада на Красной площади в ноябре 1941 года. Музыканты сводного оркестра при встречах с курсантами Военно-дирижёрского факультета утверждали, что марш этот на параде звучал. То же самое утверждал в своих мемуарах маршал Семён Буденный. Не исключено, что в первой половине 1920-х годов марш действительно мог попасть в опалу как белогвардейский — но ведь позже его издавали. Правда, начиная со времени конца Великой Отечественной войны, не раньше, и с оговорками, характерными для эзопова языка СССР, в таком роде: приводился как пример чего-то непристойного и неприличного (см. ниже отзыв С. А. Чернецкого об этом марше).
Довольно точную оценку тогдашней популярности марша даёт капитан 1 ранга Сергей Горбачёв, учёный и политолог, в статье «23 февраля — День защитника Отечества. Встань за Веру, Русская Земля! 55 лет под марш „Прощание славянки“» (сайт «Графская пристань», 23.02.2010):
Марш не был запрещён в СССР. К примеру, он упоминается в сборнике дирекционов «Служебно-строевой репертуар для оркестров РККА» С. А. Чернецкого, выпущенном в 1945 году. Также можно отметить «Сборник популярных маршей для самодеятельного оркестра» (Москва, Музгиз, 1953 г.) и переложения для баяна в сборниках старинных популярных маршей за 1955 и 1959 годы (Москва, Музгиз, 1955, 1959 гг.).
Позднее марш встречается во многих изданиях. Среди существующих записей марша самая ранняя, возможно, запись оркестра под управлением И. В. Петрова (в 1941—1944 гг. возглавлял оркестр Военно-политической академии им. В. И. Ленина) 1944 года. Она была выпущена на пластинке Апрелевского завода. «Славянка» была представлена и на американской пластинке «Марши и кавалерийская музыка в исполнении московских оркестров» («Colosseum», New York, USA, 1954).
Существуют и другие записи, однако исследователям однозначно установить исполнителей (и, соответственно, дирижёров) многих из них пока не удалось, хотя исполнение «Славянки» разными оркестрами отличалось нюансами и штрихами.
В начале 50-х годов издавались ноты марша, его мелодия звучала и на театральной сцене.
Таким образом, существующий информационный, музыкальный и фактологический массив позволяет утверждать: «Славянку» не запрещали, а её отсутствие в репертуаре многих оркестров можно объяснить множеством причин — у всякого времени свои приоритеты, пристрастия и привязанности.
Курьёза ради заметим, что генерал-майор С. А. Чернецкий, составитель упомянутого выше сборника дирекционов «Служебно-строевой репертуар для оркестров РККА», отозвался о марше «Прощание славянки» не лучшим образом, отметив его примитивизм и «скупую гармонию».
«Это типичный дореволюционный марш» — такими словами заканчивается описание Чернецкого. Видимо, им подразумевалось, что более приличествующие Советской Армии марши должны быть энергичными, создающими мажорное настроение.
Капитан С. Горбачёв совершенно прав: марш «Прощание славянки» никогда в СССР официально не запрещался, а в послевоенные годы его даже неоднократно и публиковали — в сборниках для самодеятельного оркестра и в переложении для баяна. Другими словами, хотя официально его исполнение и не было под запретом, но, если можно так выразиться, оно не поощрялось, и главной причиной этого был ярко выраженный надклассовый, общенациональный характер марша, его объединяющая сила, которая невольно заставляла слушателей почувствовать себя, прежде всего, русскими людьми, а не «красными» или «белыми».
Когда же наступил тот переломный момент, когда марш «Прощание славянки» получил истинно всенародную известность, безо всяких оговорок и уловок? Можно сказать, что марш сам по себе сыграл одну из главных ролей в фильме Михаила Каталозова «Летят журавли» (1957 год). В том эпизоде, когда призывники покидают сборный пункт, марш полностью сливается с главной героиней фильма Вероникой (её роль исполнила Татьяна Самойлова). Музыка марша рвётся через толпу, замирает — вновь и вновь пытаясь пробиться к уходящему на фронт юноше. Она вбирает в себя крики провожающих, их отчаяние, их стремление растянуть как можно дольше эти секунды, чтобы не упустить из виду родного человека. В фильме Калатозова марш «Прощание славянки» несёт не умиротворение, не покойное расставание, а трагедию.
Именно этому эпизоду аплодировали зрители Каннского фестиваля, его назвали переворотом в мировом кинематографе. Марш «Прощание славянки» будто бы обрёл второе дыхание, его мелодия стала уже узнаваемой во всем мире.
Так сложилась судьба марша.
Эпилог
Его признанный автор, Василий Агапкин, прожил долгую, насыщенную событиями жизнь. Войну он пережил в эвакуации, в Новосибирске, с оркестром НКВД. Вообще, в своей профессии он дошёл до высот, которые являются мечтой любого музыканта, обрёл признание и славу. Музыкальное образование он, видимо, не закончил, восполняя это практикой.
 С 1920 года он служил в войсках ВЧК. В конце 1922 года начальник 1-й московской школы Транспортного отдела ГПУ Лезерсон предложил ему возглавить создаваемый в школе оркестр, а уже спустя семь лет Агапкин стал руководить оркестром Центральной школы ОГПУ.
С 1920 года он служил в войсках ВЧК. В конце 1922 года начальник 1-й московской школы Транспортного отдела ГПУ Лезерсон предложил ему возглавить создаваемый в школе оркестр, а уже спустя семь лет Агапкин стал руководить оркестром Центральной школы ОГПУ.
Надо отметить, что 27 лет подряд, вплоть до 1939 года и до своего пятидесятилетнего возраста, он не занимался композиторским творчеством и не написал ни одного — ни хорошего, ни плохого — сочинения, оставаясь автором одной «Славянки».
Затем, в 1939 году он скомпилировал и написал Кавалерийский марш на тему, кажется, монгольских песен, и затем — восемь вальсов, которыми в парках Москвы его оркестр радовал отдыхающих.
«Волшебный сон», «Голубая ночь», «Любовь музыканта» — ни одно из этих его произведений, впрочем, даже не приблизилось к главному музыкальному триумфу жизни композитора.
Умер Василий Агапкин в возрасте 80 лет. Его торжественно, с воинскими почестями, похоронили на Ваганьковском кладбище в Москве. На его памятнике выбита нотная строка — тема из «Прощания славянки».
 | Агапкин не единственный русский композитор, на памятнике которого была выбита еврейская мелодия, оказавшая существенное влияние на его творчество, или, как в случае Агапкина, сыгравшая заметную роль в судьбе. На снимке слева — могила Модеста Мусоргского в Александро-Невской Лавре, Санкт-Петербург. На памятнике высечена еврейская мелодия, которую композитор использовал в кантате «Иисус Навин».
|
Про его ровесника и коллегу Якова Богорада известно не так уж много. В 1909 году он стал педагогом в Симферопольском музыкальном училище, созданном при его участии, и оставался им до конца жизни. Исследователь из Москвы Станислав Серапинас, проведя поиск по каталогу Российской государственной библиотеки, обнаружил там названия 161 произведения, которые были обработаны и изданы Яковом Богорадом: его оркестровки, аранжировки, и среди них — только шесть собственных сочинений, подписанных им как автором.
Вообще говоря, в «Ленинке» хранятся далеко не все произведения, обработанные и изданные Богорадом. Ещё в 1928 году он выпустил в Симферополе большой каталог пьес и маршей, инструментованных им для духового оркестра. В предисловии там написано, что Яков Богорад работал над этим своим собранием музыки для духовых оркестров почти четверть века и что подобных произведений насчитывается в его коллекции свыше восьмисот. Из них в каталоге перечислено свыше 650 произведений, изданных им в разные годы (примерно с 1904 года), — кроме, как он пишет, «устаревших».
Об одном из его сочинений можно уверенно утверждать, что оно было написано до революции.
Это «Столетие Отечественной войны: торжественный марш и гимн для духового оркестра» — то есть, вероятно, оно появилось в 1912 году. Произведение для духового оркестра «Восточная идиллия и танец» датировки не имеет. А вот сборник из 20 революционных и народно-бытовых песен, хотя он также не датирован, вышел, скорее всего, после 1917 года. Сохранились два нотных издания увертюры «Царь-голод (1922 год)», одно из которых выпущено в 1925 году. Это были положенные на музыку воспоминания Якова Богорада о постигшей Крым в 1921—1923 годах трагедии: о вымерших деревнях, умиравших на улицах людях, о скудных пайках из селёдки и тяжёлого непропечённого хлеба. В 1926 году Богорад издал сочинение для духового оркестра «Песнь Шамиля» и соло для кларнета «Азиатский чабан».
Очевидно, Якова Богорада весьма интересовала фольклорная музыка, ему было интересно её обрабатывать, делать ближе к современному слушателю. Неизвестно, передал ли он свою любовь к музыке сыну Семёну, но тот определённо унаследовал целеустремлённость и энергию своего отца.
В изданной в 1925 году «Адресной книжке коллекционеров денежных знаков и бон, выпущенных на территории Российской империи», значится Семён Яковлевич Богорад 14 лет, проживающий в Симферополе по ул. Набережная, 7. Коллекция Семёна выглядит для подростка впечатляюще: в ней около 500 экземпляров. А вот какое ещё существует любопытное совпадение. Помните книгу Лазаря Лагина «Старик Хоттабыч», которой до сих пор зачитываются дети? У главного героя Вольки есть друг, которого зовут Женя Богорад, и тот тоже увлекается коллекционированием (правда, не денежных знаков, а марок).
 Старик Хоттабыч и его младший друг Женя Богорад (кадр из фильма)
Старик Хоттабыч и его младший друг Женя Богорад (кадр из фильма)
Раз уж мы затронули эту детскую книжку, то хочется упомянуть о забавном и малоизвестном эпизоде «с национальным подтекстом». Всем известное заклинание Хоттабыча «Трах-тибидох» впервые было произнесено в радиоспектакле 1958 года. А в первом издании книги 1940 года написано вот что:
Вместо ответа Хоттабыч, кряхтя, приподнялся на ноги, вырвал из бороды тринадцать волосков, мелко их изорвал, выкрикнул какое-то странное слово «лехододиликраскало» и, обессиленный, опустился прямо на опилки, покрывающие арену.
В других изданиях заклинание превращено в «странное и очень длинное слово».
«Лехододиликраскало»… Получается так, что джин, согласно желанию писателя, произносил… первую строку иудейского литургического гимна встречи Шаббата (субботы) в ашкеназском (восточноевропейском) произношении. В буквальном переводе: «Иди, мой Возлюбленный, навстречу невесте (приветствуем лик субботы)». В современном иврите это звучит как «Леха доди ликрат кала…»
Предположение зыбкое и в какой-то мере фантастическое — но мог же писателю попасться под руку тот самый справочник, откуда он и позаимствовал фамилию? Или, может, Лагин услышал её в своём родном городе — Гомеле? Ведь возможно, как мы уже говорили, что Яков Богорад не только служил в этом городе, но и вырос там или жил продолжительное время.
Прощание: Симферополь, декабрь 1941-го
Была у Якова Богорада семья, работа, ученики, музыка. Его жизнь закончилась в декабре 1941 года. Какими были его последние дни, мы сейчас можем себе представить. В Государственном архиве Крыма хранится немало воспоминаний симферопольцев о тех чёрных днях, ознаменованных массовыми расстрелами евреев. Сохранилось несколько дневников, один из них вела школьница Зоя Хабарова, жившая тоже на улице Набережной. Вот несколько записей 1941 года:
11 декабря
Мы на новой квартире. Дом тоже на Набережной, метров шестьдесят от старого.
В домоуправлении сразу предложили нам квартиру. В ней раньше жили евреи.
12 декабря
Повесили приказ: «Всем евреям собраться в гестапо с вещами в течение 3-х дней».
Евреи потащились. Несут кровати, матрацы, ковры, чемоданы. Папа встретил знакомого врача. Говорит ему: «Беги в лес». А тот отвечает: «Нас отправят в Палестину». Папа ему говорит, что везде, где немцы, давно уже всех перестреляли. А тот твердит своё: «Немцы люди культурные, они не обманут, а большевики всё врут». Отец просил его оставить у нас хоть дочь. Но он не хочет.
Дневник во время оккупации вёл и зубной врач Хрисанф Гаврилович Лашкевич, которому в 1941 году исполнился уже 81 год, и его записи о тех событиях (а среди его близких друзей были и евреи) пронизаны болью и горечью:
В 2 часа дня я провожал своих друзей. С тремя громадными тяжёлыми узлами мы двинулись к указанному в приказе пункту — к бывшему Дворцу труда (сейчас это здание Центрального музея Тавриды). Шли пешком 10 евреев со звёздами, я и какая-то русская женщина. Анна Соломоновна настолько ослабела, что не могла нести свой узел, и Рувим Израилевич взвалил его себе на свободное плечо. Я нёс чемодан. Встречные русские женщины плакали, причитали, обнимали и целовали Анну Соломоновну и говорили: «Дай Бог вам остаться живыми». Я думал, что это знакомые Розенбергам люди, но Анна Соломоновна сказала мне, что она их не знает. Таких сочувствовавших, причитавших, целовавших и обнимавших нас (в том числе и меня, чему я не противился) попадалось на пути всё больше. Некоторые даже крестили нашу группу…
Мы не знаем, с какого из сборных пунктов Симферополя отправился в свой последний путь Яков Богорад, которому тогда было 62 года. Не знаем, один ли он двигался в колонне обречённых людей. Сыну Семёну к тому времени уже исполнилось 30, он мог сам иметь жену и детей. Был ли сын тогда в городе или на фронте — тоже неизвестно, но войну Семён не пережил. В Симферополе не осталось никого из родных Богорада.
Могилой талантливого музыканта и композитора, как и тысяч других симферопольских евреев, стал противотанковый ров на 10-м километре Феодосийского шоссе. Яков Богорад шёл к ней под женский и детский плач, крики, немецкие команды — звуки его последнего прощального марша…
Биография талантливого симферопольского композитора и аранжировщика Якова Богорада ждёт уточнений, выяснения ключевых моментов и подробностей. Возможно, найдутся исследователи, которые сочтут возможным этим заняться.
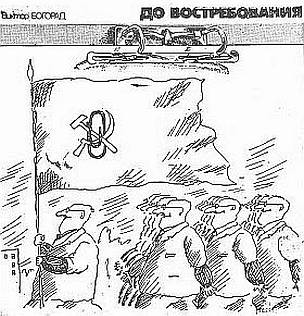 Поиски родных Якова Богорада, хотя бы и самых дальних, пока безуспешны. Поиски эти осложняются ещё и тем, что вопрос о корнях симферопольского композитора до сих пор остаётся открытым. О его рождении и детстве в Гомеле упоминать стоит лишь со знаком вопроса. В мире немало талантливых и добившихся известности Богорадов, но вот каких-либо родственных связей их с Яковом Исааковичем Богорадом пока что не выявлено. А, например, среди знаменитых однофамильцев есть некоторые, в ком замечаются фамильные черты, например:
Поиски родных Якова Богорада, хотя бы и самых дальних, пока безуспешны. Поиски эти осложняются ещё и тем, что вопрос о корнях симферопольского композитора до сих пор остаётся открытым. О его рождении и детстве в Гомеле упоминать стоит лишь со знаком вопроса. В мире немало талантливых и добившихся известности Богорадов, но вот каких-либо родственных связей их с Яковом Исааковичем Богорадом пока что не выявлено. А, например, среди знаменитых однофамильцев есть некоторые, в ком замечаются фамильные черты, например:
— Очень известный российский художник-карикатурист Виктор Богорад. На заре перестройки он прославился карикатурой «Марш», на которой бредёт куда-то колонна людей, скреплённых друг с другом канцелярскими скрепками. Эта карикатура так и называлась — «Марш Богорада». Она вызвала самый настоящий скандал, активно обсуждалась в прессе, на пленумах Ленинградского горкома КПСС, стала одним из символов перестройки.
— В Санкт-Петербурге живёт Стас Богорад — «живая легенда» отечественной рок-музыки.
— В 1928 году известный советский невропатолог Ф. А. Богорад описал симптом двойственности чувств. В просторечии — «крокодиловы слёзы». Во все медицинские энциклопедии вошёл термин «симптом Богорада».
Ирина Легкодух, октябрь 2010 года — апрель 2012 года

Заметим, по ассоциации, что и самый первый, хотя и неофициальный, гимн России «Гром победы раздавайся» (муз. Осипа Козловского, слова Гавриила Державина) — тематически тоже был связан с Крымом:
Гром победы, раздавайся! Веселися, храбрый Росс! Звучной славой украшайся. Магомета ты потрёс! Славься сим, Екатерина! Славься, нежная к нам мать! Воды быстрые Дуная Уж в руках теперь у нас; Храбрость Россов почитая, Тавр под нами и Кавказ.