Под заголовком «Ты мне, Родина родная, вольной волей дорога» читайте начало статьи о Галине Ненашевой.

Мама Галины — Раиса Гавриловна Семененко родилась на Украине, в селе Лютенька на Полтавщине, в 1916 году. В 13 лет она осталась сиротой. 1929 год — разгар коллективизации, вспышки крестьянского недовольства. Жаль, что в интервью Раисы Гавриловны, опубликованном в газете «Челябинский рабочий» 7 марта 2003 года, ничего не говорится о причинах смерти её родителей.
Итак, девочка-сирота накануне страшного голода 1932—1933 годов. Две тётки-родственницы в Гадяче, из которых, как в сказках, одна — добрая, другая — злая.
Ещё, по словам Раисы Гавриловны, была прислуга Ариша. Откуда в сельской семье прислуга? Вот и думается мне, что судьба родителей Раи, по-видимому, трагическая.
Отец — «дед Гаврила» — дьяком был, тоже уязвимая прослойка населения в то время.
Семилетку Рая закончила в райцентре Гадяч, после чего по набору поступила в Ворошиловградское горнопромышленное училище. «Злая» тётка ничего не дала на дорогу, на дверь указала. Аришка в Лютеньке жила, а времени заехать хотя бы за продуктами у Раисы не было. Учёба в училище, практика на шахтах, где приходилось воду откачивать. Однажды случайно осталась внизу, в холодной воде, с крысами. Рая заболела ревматизмом, профессию пришлось менять, и вскоре началась у неё другая жизнь в другом месте.
Но всё же стоит вернуться в Лютеньку — как оказалось, случайно, из чистого любопытства набранное в поисковой системе Интернета название выдало огромный массив интереснейшей информации.
В последнее время разные периоды украинской истории стали постоянными информационными поводами не только для Украины, а Лютенька слишком часто упоминается в контексте многих исторических событий, чтобы не воспользоваться этим отдельным украинским селом и не задуматься лишний раз о глубокой внутренней связи двух стран.
Переяславская Рада и буквально через несколько лет — метания гетмана Ивана Выговского между поляками, татарами, Москвой. Полтавская битва, предательство Мазепы и победа русского оружия над шведами. Украинская Народная республика и борьба с большевиками, волнения и восстания в самом центре Украины сторонников УНР. Принудительная коллективизация, опять крестьянские восстания, голод 1932—1933 годов, Лютенька на так называемой «чёрной доске», обречённая на полное вымирание.
Великая Отечественная война, партизанское движение, карательные акции фашистов, ответные акции партизан против немцев и перешедших на сторону врага односельчан.
Удивительно: Лютенька, показательная жертва Голодомора, и списки украинских семей якобы погубленного преступным режимом села, сплошь украинские фамилии (не переселенцы из России) казненных фашистами за поддержку партизанского движения — на Полтавском мемориальном сайте «Німецький терор (1941—1943). Полтавщина. Гадяцький район».
Герой Советского Союза, однофамильцы которого (родственники, скорее всего) — и в списках жертв немецкой оккупации, и в списках жертв сталинских репрессий.
Украинец, русский офицер, прославивший Россию в 19-м веке, и украинка, русская певица, гордость России века двадцатого — происхождением из одного лишь украинского села. Ну, а если покопаться в истории других сёл?
Предлагаю читателям немного интересной информации об истории и людях Лютеньки.
Лютенька — местечко Полтавской губернии, Гадячского уезда, при речке Лютеньке, в 25 верстах от уездного города. Жителей 5681, дворов 1081, православных церквей 3, лавок 5, училище, 4 ярмарки в году. Среди сельского населения значительно распространён щетинницкий (шибайный) промысел; щетинники Лютеньки совершают далёкие странствования для купли-продажи своих товаров. В 1649 г. Лютенька значился сотенным городом Полтавского полка. В 1658 г. Выговский отдал Лютеньку татарам на разграбление, а в 1659 г. сжёг (из Энциклопедии Брокгауза и Эфрона; Иван Выговский был гетманом Украины в 1657—1659 годах)
Город Гадяч входил в Черниговское наместничество России, затем в Полтавскую губернию. Село Лютенька основано в конце 16 века. В первой половине 17 века оно стало собственностью польского магната, гетмана Станислава Конецпольского, который в 1643 году сдал её в аренду шляхтичу Длуському. После присоединения левобережной Украины к России императрицей Екатериной II Лютенька была дарована последнему гетману Украины К. К. Разумовскому, который в 1785 г. продал её в государственную казну.
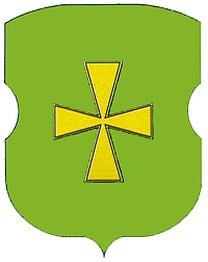 Село Лютенька имеет свой герб, утверждённый в 1772 г. В нём на фигурной основе щита в сплошном зелёном поле изображён золотой или жёлтый клинчатый крест мальтийской (георгиевской) формы. Описание и фотография герба села Лютенька содержится в книге Владимира Панченко «Мiськi та мiстечковi герби України».
Село Лютенька имеет свой герб, утверждённый в 1772 г. В нём на фигурной основе щита в сплошном зелёном поле изображён золотой или жёлтый клинчатый крест мальтийской (георгиевской) формы. Описание и фотография герба села Лютенька содержится в книге Владимира Панченко «Мiськi та мiстечковi герби України».
Лютенька упоминается и Д. Н. Бантыш-Каменским в его изданной в 1822 году книге с длинным и подробным названием — «История Малой России со времён присоединения оной к Российскому государству при царе Алексее Михайловиче, с кратким обозрением первобытнаго состояния сего края» (часть 1, глава 7):
В Генваре, 1659 года, возобновились военныя действия Россиян против неприятеля. Виговский, соединив Козацкие полки с союзниками своими Поляками и Татарами, подходил к Лохвице, откуда, быв отражён Стольником и Воеводою Князем Фёдором Фёдоровичем Куракиным, разстановил войска свои под Сорочинцею, Рошавкою, Лютенькою и Гадячем.
В состав Полтавского казачьего полка войска Запорожского входила и Лютеньская сотня («Реєстр Війська Запорозького». Київ, 1995. «Наукова думка», с. 435.)
Следующее в хронологическом порядке найденное мною упоминание о Лютеньке содержится в работе Даниеля Крмана «Итинерарий» (Малоизвестный источник по истории Северной войны) // Вопросы истории, № 12, 1976 г.:
Шведская гвардия двинулась отсюда 21 февраля, мы же выступили 18 марта и в течение часа достигли монастыря, окружённого рвами и валами, а оттуда при сильнейшем морозе продвинулись на две мили к городу Лютеньке, также укреплённому рвами и валами, где от господина Спарре, коменданта этой местности, получили удобную квартиру. Мы заметили здесь великолепнейший храм [Успенская церковь 1686 года (по некоторым источникам), от которой остались только развалины; последнее время часто упоминается в планах реставрации — Палома], недавно построенный из камня, алтарь которого, говорят, стоил 20 тысяч, вся же постройка — 100 тысяч козацких флоринов, один из которых равен десяти царским грошам. Я ещё в жизни моей не видел подобного алтаря и не был бы удивлён до такой степени, если в Козакии мог бы увидеть хотя бы немного камня. Он тянулся от одной стены до другой, поднимался до свода и содержал различные статуи, разрисованные золотом и разными красками. Вблизи алтаря показывали мощи старца, какого-то священника, похороненного в прошлом веке и сохранившего вследствие чрезвычайной святости лицо и волосы ещё до сих пор. В вечернее время трое мужчин оказали нам честь исполнением песни в три голоса, а именно одного низкого и двух дискантов, говоря, что мальчики редко привлекаются для публичной песни.
В Лютеньке родился Александр Дмитриевич Засядко.
Старинный малороссийский род Засядко был небогат. До девяти лет Саша Засядко рос и воспитывался в родительском доме. Небольшое имение находилось на живописном берегу речки с нежным названием Лютенька, впадающей в Псел. Лютенькой называлось и само местечко — родина создателя первых русских ракет (из книги И. В. Дьякова «Ракетчик в эполетах»).
 А. Д. Засядко (1779—1837) — русский специалист в области артиллерии и ракетной техники, генерал-лейтенант (1829). В 1797 окончил Артиллерийский и Инженерный шляхетский кадетский корпус. В 1815 начал работать над созданием боевых пороховых ракет. Сконструировал боевые ракеты трёх калибров, разработал технологию их изготовления, создал пусковые станки, позволяющие вести залповый огонь (6 ракет), и приспособления для наведения. Провёл большое число опытных пусков ракет и достиг дальности их полета в 2300 м. Разработал рекомендации по выбору оптимальных параметров ракет, определению дальности их полета и рассеивания в зависимости от углов запуска, рассмотрел возможность и эффективность запуска связки ракет, методы транспортировки и боевого использования ракет. Организовал производство ракет в специальном «ракетном заведении», сформировал первое в русской армии ракетное подразделение. Результаты работ 3асядко изложил в труде «О деле ракет зажигательных и рикошетных» (1817), являющемся первым достаточно полным наставлением по изготовлению и боевому использованию ракет в русской армии. Именем 3асядко назван кратер на Луне.
А. Д. Засядко (1779—1837) — русский специалист в области артиллерии и ракетной техники, генерал-лейтенант (1829). В 1797 окончил Артиллерийский и Инженерный шляхетский кадетский корпус. В 1815 начал работать над созданием боевых пороховых ракет. Сконструировал боевые ракеты трёх калибров, разработал технологию их изготовления, создал пусковые станки, позволяющие вести залповый огонь (6 ракет), и приспособления для наведения. Провёл большое число опытных пусков ракет и достиг дальности их полета в 2300 м. Разработал рекомендации по выбору оптимальных параметров ракет, определению дальности их полета и рассеивания в зависимости от углов запуска, рассмотрел возможность и эффективность запуска связки ракет, методы транспортировки и боевого использования ракет. Организовал производство ракет в специальном «ракетном заведении», сформировал первое в русской армии ракетное подразделение. Результаты работ 3асядко изложил в труде «О деле ракет зажигательных и рикошетных» (1817), являющемся первым достаточно полным наставлением по изготовлению и боевому использованию ракет в русской армии. Именем 3асядко назван кратер на Луне.
(Энциклопедия «Космонавтика», издательство «Советская энциклопедия», 1985).
Коллективизация на Полтавщине сопровождалась крестьянскими бунтами. В 1928 году в Гадячском районе действовал отряд по борьбе с советской властью, который организовал Ефим Шербань. В него вошли раскулаченные крестьяне и шесть братьев самого организатора сопротивления.
По сообщениям украинских СМИ, «вооружённые охотничьими ружьями, Щербань и его люди ночью врывались в дома большевистских активистов и требовали, чтобы те написали отказ от работы на советскую власть. Запуганные активисты писали отказ и уходили из колхозов. При этом люди Щербаня никого из них не избивали и не убивали. Сотрудники Главного политического управления (ГПУ) возбудили против Щербаня уголовное дело за „разжигание ненависти к советской власти и колхозному хозяйству“. По заданию ГПУ, один из крестьян подсыпал снотворное в пищу Щербаня и его друзей, после чего прибывшие чекисты расстреляли спящих людей».
Не потому ли в Постановлении Политбюро ЦК КП(б)У и Совнаркома УССР от 6 декабря 1932 года «О занесении на „чёрную доску“ сёл, злостно саботирующих хлебозаготовки» третьим числится с. Лютенька Гадячского района Харьковской области? (В 1923—37 гг. было проведено несколько административных реформ, последняя из которых привела к созданию 22 сентября 1937 года Полтавской области.)
В 2007 году усилиями украинских властей тема голода 1933 года была, на мой взгляд, дискредитирована — в душе многих перестал звучать Реквием по погибшим, потому что какофония лжи, перемешанной с правдой, заглушала всё, не давала сосредоточиться на внутреннем, глубоко личностном, интимном переживании людям, потерявшим тогда своих близких.
 Недобросовестные исполнители «государевой воли» подменяли фотографии, иллюстрирующие трагедию 33-го, «стирали» из карт областей якобы полностью вымершие сёла. Вот так «стёрли» и Лютеньку, объявив её более не существующей на карте Харьковской области. И неважно, что административной реформой весь район был отнесён к Полтавской области, неважно, что многие выжили, что и сейчас Лютенька является одним из центров притяжения для любителей краеведения.
Недобросовестные исполнители «государевой воли» подменяли фотографии, иллюстрирующие трагедию 33-го, «стирали» из карт областей якобы полностью вымершие сёла. Вот так «стёрли» и Лютеньку, объявив её более не существующей на карте Харьковской области. И неважно, что административной реформой весь район был отнесён к Полтавской области, неважно, что многие выжили, что и сейчас Лютенька является одним из центров притяжения для любителей краеведения.
У меня дома стоит на полке многостраничный фолиант — «33-й: голод». Народна книга-Меморіал // Радянський письменник, 1991. В ней сотни свидетельств людей, переживших голод. Эти воспоминания вызывают разные чувства, иногда и противоречивые — в некоторых чувствуется будущая политизация трагедии.
Но вот рассказу Михаила Васильевича Савченко из Лютеньки почему-то верится безоговорочно:
У нас в Лютеньке был колхоз имени Шевченко. Село большое — 2200 дворов. В колхозе было аж 20 бригад.
По разнарядке сверху много земли засевали эспарцетом, клевером, люцерной, суданкой, сорго, а посевы зерновых уменьшили. Когда собрали урожай, посеяли озимые, засыпали ярое зерно на посев и выдали людям по 200 грамм на трудодень — оказалось, что план продажи хлеба государству колхоз выполнить не может.
И тогда постановлением правительства нашу Лютеньку занесли на республиканскую «чёрную доску».
В селе закрыли магазины кооперации, обе школы — среднюю и восьмилетку, мельницу, маслобойку. Арестовали правление колхоза (кто не успел исчезнуть).
Из района приехали бригады, в которых были люди с Полтавы, Киева, Харькова, Днепропетровска. Полное село чужих людей, их прозвали «буксирами».
Собрали собрание колхоза и объявили, что колхозники должны немедленно вернуть будто бы незаконно полученный ими хлеб (200 грамм на трудодень). Обложили высоким налогом каждую усадьбу и установили срок.
И вот настал этот чёрный день. Бригады «буксиров» пошли по дворам, искали хлеб в доме, на чердаке, в сундуках, сараях, овинах. Железными щупами прошлись по грядкам, по сараям — нет ли где закопанного. Найденное зерно забиралось, картошку, буряк тоже выносили. Мельницы, жернова, ступы били. Не помогали ни уговоры, ни плачи.
Село почернело, примолкло, будто бы и людей в нём нет. Этот смерч гулял по селу недели две. Судили правление колхоза, четырёх человек присудили к расстрелу. По кассации расстрел заменили десятью годами лагерей. Всех людей выгоняли в поле перемолачивать стога соломы. За день молотилка намолачивала 30 кг мышиного помёта… Из колхозных амбаров вывезли посевное зерно, страховой фонд, фураж. Скот, свиньи остались без кормов, начался падёж.
Крепких хозяев из села вывезли ещё в 30-м году. Кого же теперь вывозить? Нашли 30 семей «подкулачников» и ночью вывезли куда-то, люди говорили — аж в Кзыл-ординскую область. Среди них были и такие, которые никогда не имели и лоскута своей земли, бывшие батраки и даже церковный звонарь. Их имущество разобрали «буксиры». В завершение всего они разделили колхоз на шесть колхозов и выехали.
До апреля мы ещё питались картошкой, которая кое у кого осталась где-то в яме ненайденной и не забранной. Соседи делились с соседями пустыми кукурузными кочанами, просяной шелухой. Пошли в еду липовые листья и барда. Нужно благодарить судьбу, что лютеньский спиртзавод с осени перерабатывал картошку и залил этой бардой три большие ямы. К весне она загустела. Эту барду и продавали людям. Из неё пекли лепеники и этим жили.
Умирать начали в апреле. Особенно старые люди и совсем маленькие дети. В нашем углу в один день умерли Савченко Петро и его жена Марфа. Пономаренко Стефан выполз как-то из хаты, думал дойти до поля и найти хоть какую-то гнилую картофелину, а на улице упал, и не стало человека.
У меня в это время была уже семья — жена и четверо маленьких детей, старшему 8 лет. Спасла нас та зловонная барда да ещё конина от издохших коней.
Вот такая была «чёрная доска» нашему селу.
(«33-й: голод». Народна книга-Меморіал // Радянський письменник, 1991)
А для понимания, что такое было для села попасть на «чёрную доску», — фрагмент упомянутого выше Постановления:
В отношении этих сёл провести следующие мероприятия:
1. Немедленное прекращение подвоза товаров, полное прекращение кооперативной и государственной торговли на месте и вывоз из соответствующих кооперативных и государственных лавок всех наличных товаров.
2. Полное запрещение колхозной торговли, как для колхозов, колхозников, так и единоличников.
3. Прекращение всякого рода кредитования, проведение досрочного взыскания кредитов и других финансовых обязательств.
4. Проверку и очистку органами РКИ кооперативных и государственных аппаратов от всякого рода чуждых и враждебных элементов.
5. Проверку и очистку колхозов этих сёл, с изъятием контрреволюционных элементов, организаторов срыва хлебозаготовок.
(«Голод 1932—1933 рокiв на Українi: очима iсторикiв, мовою документiв» / Кер. кол. упоряд. Р. Пиріг. — К.: Політвидав України, 1990. — С. 278—279)
Чтобы единоличники или колхозники не могли купить хоть что-то из продуктов в соседних сёлах или городах, выезд за пределы данного села запрещался. Население этих сёл фактически было обречено на вымирание. Тем не менее, сёла не только заносили на «чёрные доски», но и снимали оттуда. Почему-то политики не любят вспоминать об этих фактах, об этих Постановлениях, дававших надежду на жизнь.
Не обошли Лютеньку стороной и события Великой Отечественной войны.
21 ноября 1907 года здесь в крестьянской семье родился будущий Герой Советского Союза Михаил Лукич Величай, заместитель по политической части командира 100-го гвардейского стрелкового полка 35-й гвардейской стрелковой дивизии 6-й армии Юго-Западного фронта, гвардии майор, призванный в ряды Красной Армии в 1939 году.
М. Л. Величай отличился при форсировании Днепра в ночь на 27 сентября 1943 года в районе села Звонецкое Днепропетровской области. Он дважды брал на себя командование частью и обеспечивал выполнение боевой задачи, а 30 сентября 1943 года в ожесточённом бою за расширение плацдарма погиб. Похоронен в городе Синельниково Днепропетровской области.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 февраля 1944 года за мужество и героизм, проявленные при форсировании Днепра и удержании плацдарма на его правом берегу, гвардии майору Михаилу Лукичу Величаю посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.
Из мемуаров М. Х. Калашника «Испытание огнём»:
Хорошо помню многолюдный митинг в только что освобождённом селе Лютенька Гадячского района. Собрались солдаты и офицеры одного из полков 206-й стрелковой дивизии и уцелевшие жители села. Митинг проходил у огромной братской могилы жертв фашистских палачей. В своих выступлениях местные партизаны и родственники замученных рассказали воинам о чудовищных преступлениях карателей-эсэсовцев. Фашистские палачи уничтожали целые семьи лишь за то, что к ним иногда заходили обогреться или переночевать партизаны. Так, вместе с колхозником Михаилом Степановичем Силенко были расстреляны его шестидесятилетний отец, мать и две сестры, восемнадцати и шестнадцати лет. Такая же участь постигла семью семидесятилетнего Прокофия Неделько: каратели расстреляли самого старика, его жену, сноху, тринадцатилетнего внука Мишу и семилетнюю внучку Галю. От рук фашистских извергов погибла семья Ивана Ющенко из пяти человек. Всего же гитлеровцы уничтожили более шестисот жителей села.
Семидесятилетний старик, колхозник Абрам Сидоренко со слезами на глазах рассказал, как гитлеровцы мучили попавшего к ним в руки раненого партизана. Чтобы заставить его заговорить, палачи долго пытали молодого патриота, но ничего не добились. Тогда они выволокли его на крыльцо, раздели донага, облили ледяной водой (было это зимой, в мороз) и целый час водили по заснеженным улицам. Партизан продолжал молчать. Вконец обессилевший, покрытый коркой льда, он едва передвигал ноги. Эсэсовцы подтащили раненого к виселице, к которой заранее согнали народ. И тут люди ахнули: молодой патриот, с трудом передвигая обмороженные ноги, сам поднялся по ступенькам и, собрав последние силы, крикнул: «Прощавайте, друзі! Хай живе Радянська Батьківщина!».
Вот на этом трагическом моменте в истории Лютеньки можно было бы и остановиться, поскольку «все счастливые семьи похожи друг на друга», и на очередной «развилке дорог» Лютенька, как и вся Украина, оказалась уже в 1991 году.
Я неслучайно сказала «на очередной развилке», ведь гипотетически и в 1933-м, и в 1941-м годах Украина стояла на такой развилке и имела все шансы «стать несчастливой по-своему», но предпочла ещё полвека своей общей с Россией судьбы.
Подумайте! Украина — зона устойчивого земледелия, 31 миллион людей к моменту коллективизации, из которых абсолютное большинство — крестьяне, имеющие землю и зерно. Где всеобщий крестьянский бунт? Ведь индустриализация ещё серьезно не началась, ведь Красная Армия была вооружена слабо. А бунта не случилось. Одиночные вспышки недовольства, коллективизация, голод, индустриализация и война. Между голодом и войной всего 8 лет.
1941 год, опять развилка. Вся Украина «под немцами», полностью оккупирована. Но где жажда мщения, где реванш за голод 33-го, где поголовное предательство?
А ведь нужно ещё учесть массовые репрессии 30-х. Где желающие оторваться под шумок от СССР, поддержать оккупантов, ведь многие не попали на фронт по тем или иным причинам — немцы заняли Украину в считанные месяцы.
Ничего этого нет, во всяком случае, массово. А есть общий для всех героизм на фронте, партизанское движение в тылу. В чём причина этого феномена? Где искать объяснения?
Есть у меня книга — «Древние цивилизации» («Мысль», Москва, 1989). В ней о древних цивилизациях Египта, Африки, Южной Аравии, Месопотамии, Малой Азии, Древнего Ирана, Закавказья, скифов…
Вот и возникла у меня мысль о Русской цивилизации. Это не совсем Российская империя, не Российская держава, вообще не государство в каких-то чётко обозначенных границах.
Границы Русской цивилизации могут сужаться, расширяться, не затрагивая государственных границ, а существуя над ними. И Россия, как центр этой цивилизации, должна осознавать свою миссию и не отталкивать тех, кто к этому центру стремится.
Ведь существуют такие понятия — «космополит», «гражданин мира». Таким людям тесно в границах одного этноса и в государственных границах.
Русская цивилизация — это духовный центр для очень многих на Украине, и не только этнических русских. Ведь только ограниченный ум может считать Анну Ахматову русскоязычной украинской поэтессой, поскольку родилась она с именем Анна Горенко.
И сколько таких людей могло существовать, дышать, думать, творить только в притяжении Русской цивилизации, где бы они ни жили.
Недавно я после большого перерыва смотрела передачу российского телевидения. Впервые обратила внимание на лица русских людей — с русскими фамилиями, именами, отчествами. Какие же они все разные — разрез глаз, овал лица… Сколько этносов переплавлено Русской цивилизацией, и они не поступятся принадлежностью к ней во имя какой бы то ни было узкой национальной идеи, как мне кажется.
И ещё я думаю, что в наших двух народах, где-то в глубине, в подсознании, всегда живёт эта общность, эта принадлежность к единому духовному центру, которая выше границ и выше этносов. Поэтому и не бунтовали в 1933-м, поэтому и не предавали в 1941-м.
Может, наивная мысль, не до конца продуманная, но я пришла к ней, слушая песни о России в исполнении Галины Ненашевой, разбираясь в её украинских корнях.
Когда территорию нашей бывшей единой страны изрезали границами, они, границы эти, воспринимались какой-то досадной условностью, игрой понарошку, не всерьёз. Казалось, вот-вот, и все опомнятся, поймут всю несуразность, нелепицу этого разделения — ведь птицы по-прежнему летают, не замечая границ, так почему же люди должны забыть своё родство, общую историю, общие песни, книги?..
Но вдруг я переоцениваю силу духовного единства наших народов? И не случится ли самое страшное, когда углубится раскол, когда границы пройдут не только по земле, но и по душам? Это уже началось — и поиск врагов, и какая-то алогичная, невозможная ненависть к России (во всяком случае, в умах некоторых моих соотечественников). Но нельзя, не получается, невозможно вычеркнуть из памяти детство, юность, десятки лет прожитой жизни.
В великолепном исполнении Галины Ненашевой звучит песня «Любите Россию» (скачать):
Колышет берёзоньку ветер весенний, Весёлой капели доносится звон… Как будто читает поэму Есенин Про землю, в которую был он влюблён. Про белые рощи и ливни косые, Про жёлтые нивы и взлёт журавлей. Любите Россию, любите Россию, Для русского сердца земли нет милей. Нам русские песни с рождения пели. Нас ветер России в пути обнимал. Когда вся Россия надела шинели, Нередко, бывало, солдат вспоминал | И белые рощи, и ливни косые, И мысленно детям своим завещал: Любите Россию, любите Россию — Россию, которую я защищал. Кто Русью рождённый, в Россию влюблённый, Тот отдал ей сердце и душу свою. Пред ней, величавой, склоняюсь в поклоне, О ней, о России, я песню пою — Про белые рощи и ливни косые, Про жёлтые нивы и радость весны. Любите Россию, любите Россию! И будьте России навеки верны! |
Палома, декабрь 2007 года