Две вещи в мире для меня всегда были самыми святыми:
стихи и любовь (Елизавета Дмитриева)
1. «Милый друг, вы приподняли только край моей вуали…»
Ночью, совершенно случайно, в поисках воспоминаний об Анне Ахматовой, я наткнулась в журнале «Новый мир» на серию материалов о Черубине де Габриак под общим названием, вынесенным мною в эпиграф. Честно признаюсь, несмотря на свою любовь к поэзии, несмотря на то, что, конечно, я не один раз видела и читала стихи Черубины де Габриак, — никогда особенно не задумывалась, а откуда же такое необычное имя у русской поэтессы. И вот такое запоздалое открытие — трагедия женщины и творческой личности, убийство души, за которым последовала и преждевременная смерть, обусловленная, как мне кажется, не только тяготами жизни и проблемами здоровья.
Конечно, я тут же забыла о своих поисках воспоминаний и окунулась в жизнеописание Елизаветы-Черубины. А утром мне пришла в голову мысль — посмотреть на историю Черубины де Габриак взглядом женщины, тоже не чуждой склонности к розыгрышам, мистификациям и, признаюсь честно, ощущающей в себе некоторые творческие возможности, то разгорающиеся, то угасающие по непонятным и не зависящим от меня причинам. Пожалуй, именно последнее обстоятельство стало определяющим в выборе темы такого мини-исследования. Уж очень раздражающим и болезненным для меня стало ощущение потери неожиданно возникшей и очень скоро пропавшей способности к слову.
 Я быстро пробежалась по ресурсам Интернета — посмотреть, чем же я «владею» и на что могу опереться. Да особенно и не на что. И не только потому, что там везде в основном изложен мужской взгляд, а он, как мне кажется, ошибочен. Даже одной женщине трудно понять другую, куда уж мужчинам с их прагматичностью, даже самым «лучшим» из них! Ведь что пишут — малышку Елизавету — Лилю, как её называли, — никто всерьёз не воспринимал в литературных кругах, а её стихи не имели никаких шансов быть опубликованными. Поэтому по совету своего большого друга, кумира, человека, которого она просто любила (об этом позже), Максимилиана Волошина, Лиля взяла себе необычное имя Черубины, и вдвоём они полгода морочили голову публике, наслаждаясь успехом возникшей на российском поэтическом небосклоне звезды. Может быть, я слегка утрирую, но только слегка. Ведь этой мистификацией и последующим разоблачением не объяснить, почему Елизавета Дмитриева не смогла никогда больше писать таких стихов, какие писала Черубина.
Я быстро пробежалась по ресурсам Интернета — посмотреть, чем же я «владею» и на что могу опереться. Да особенно и не на что. И не только потому, что там везде в основном изложен мужской взгляд, а он, как мне кажется, ошибочен. Даже одной женщине трудно понять другую, куда уж мужчинам с их прагматичностью, даже самым «лучшим» из них! Ведь что пишут — малышку Елизавету — Лилю, как её называли, — никто всерьёз не воспринимал в литературных кругах, а её стихи не имели никаких шансов быть опубликованными. Поэтому по совету своего большого друга, кумира, человека, которого она просто любила (об этом позже), Максимилиана Волошина, Лиля взяла себе необычное имя Черубины, и вдвоём они полгода морочили голову публике, наслаждаясь успехом возникшей на российском поэтическом небосклоне звезды. Может быть, я слегка утрирую, но только слегка. Ведь этой мистификацией и последующим разоблачением не объяснить, почему Елизавета Дмитриева не смогла никогда больше писать таких стихов, какие писала Черубина.
Казалось бы — вот он, успех у публики, признание её поэтического дарования… Какая, в сущности, разница теперь, как зовут талантливую поэтессу и какое имя будет стоять под текстами её стихов? А вот нет — произошло убийство души, и «что-то главное пропало»… Как сказала Марина Цветаева — «её разбудили, как сомнамбулу». И это — женский взгляд на трагедию Елизаветы-Черубины. Именно слова Марины и мои собственные мысли о своих творческих неудачах сошлись во что-то пока ещё не совсем определённое, но свет забрезжил, и я надеюсь в конце концов разобраться и в трагедии Черубины де Габриак, и в своих собственных проблемах.
Возможно, есть ещё схожие трагедии, когда вдруг загоралась и гасла звезда, оставив после себя неоспоримые следы творческого и именно кратковременного дара, в определённых временных рамках, какой бы ни была впоследствии частная жизнь самой женщины. А мне сдаётся, что особенно счастливой она уже быть не может…
2. Перекличка
Когда-то у меня были свои собственные полгода под маской. Но, в отличие от Черубины де Габриак, я не могу сказать, что «две вещи в мире для меня всегда были самыми святыми: стихи и любовь». Стихи у меня случались крайне редко и лишь в экстремальных эмоциональных обстоятельствах. Я ещё способна была на пародии, написав (довольно неплохой, на мой взгляд) серьёзный текст только однажды, под сильным воздействием драматической ситуации. Более-менее связно я могла изложить какие-то мысли в прозе, причем, в малом формате, не более страницы. А о любви вообще не задумывалась, отдав дань лёгким влюблённостям и закрыв для себя эту тему.
И вот случились эти странные полгода под маской, резко разделённые на два периода совсем разным эмоциональным состоянием. Но и в одном, и в другом периоде у меня была мечта. В моей жизни никогда до этого не было склонности к розыгрышам и мистификациям, как и причин для её появления. Хотя мысленно я примеряла к себе различные маски, проживала в мечтах разные жизни, проживала разные образы. Одной себя мне — девчонке, с детства обречённой на самостоятельность, мне — мечтательной девушке, любившей литературу и запоем читавшей всё, что попадёт под руку, мне — женщине, чья жизнь складывалась не совсем удачно и представлялась ей исключительно в унылых серых тонах, — одной себя мне явно было недостаточно.
В первом периоде того полугодия, связанном исключительно с политической ситуацией в стране, и появилась первая маска, соответствующая образу маленькой воительницы за общее благо, общее счастье в моём тогдашнем понимании. Отрешившись от всех своих личных проблем, я с головой окунулась в политические события, а под маской изливала свой взгляд на мир в одном интересном месте — искрясь, рассыпаясь шутками, остротами, едкими замечаниями в адрес оппонентов. Ведь у меня была мечта… Не было слова, произнесённого в мой адрес, на которое я бы не ответила десятком своих, не было события, которого бы я не прокомментировала со всей креативностью увлёкшейся до крайности натуры. О, как любила я своих оппонентов и недоброжелателей, дававших мне шанс для самовыражения во всех мыслимых и немыслимых формах! Особенно, когда наступила долгожданная политическая победа. Как я была добра, как великодушна, какими красками описывала наше будущее всеобщее счастье!
 И вот тут-то, без паузы, независимо от себя самой, без всякого насилия над своим сложившимся «я», совершенно неожиданно, я — подумать только! — я позорно влюбилась, и моя неуёмная энергия получила новое направление. Я вся отдалась новому чувству, забыв о маленькой воительнице, радующейся, что на одном из митингов её чуть было не затоптали оппоненты… У меня появилась новая мечта, естественно, сменился образ, а тексты… О! Какими лирическими стали мои тексты, в какой ранее не свойственной мне лексике изливала я свои чувства! Жаль, что так мало осталось видимых следов того периода в моей жизни — под воздействием минуты я уничтожила свой архив писем, а там было что почитать… Сохранилось лишь несколько моих писем того времени, и перечитывая их, я не верю, что способна была так излагать свои мысли, так выражать свою влюблённость (именно влюблённость в самом остром её периоде, поскольку любовь, как я понимаю, — это всё же нечто другое). В письмах было всё — и бессвязное изложение жизненных обстоятельств, и обрывки стихов и песен, и самые нежные признания, на которые, казалось, я совершенно не была способна в силу характера и сложившейся натуры. А кроме писем, были ещё и попытки творческого осмысления моего эмоционального состояния, были рассказы, были даже стихи, как ни странно. Правда, к стихам я обращалась, по своей всегдашней привычке, только в минуты грусти, когда становилось совсем плохо, а мечта ускользала за горизонт.
И вот тут-то, без паузы, независимо от себя самой, без всякого насилия над своим сложившимся «я», совершенно неожиданно, я — подумать только! — я позорно влюбилась, и моя неуёмная энергия получила новое направление. Я вся отдалась новому чувству, забыв о маленькой воительнице, радующейся, что на одном из митингов её чуть было не затоптали оппоненты… У меня появилась новая мечта, естественно, сменился образ, а тексты… О! Какими лирическими стали мои тексты, в какой ранее не свойственной мне лексике изливала я свои чувства! Жаль, что так мало осталось видимых следов того периода в моей жизни — под воздействием минуты я уничтожила свой архив писем, а там было что почитать… Сохранилось лишь несколько моих писем того времени, и перечитывая их, я не верю, что способна была так излагать свои мысли, так выражать свою влюблённость (именно влюблённость в самом остром её периоде, поскольку любовь, как я понимаю, — это всё же нечто другое). В письмах было всё — и бессвязное изложение жизненных обстоятельств, и обрывки стихов и песен, и самые нежные признания, на которые, казалось, я совершенно не была способна в силу характера и сложившейся натуры. А кроме писем, были ещё и попытки творческого осмысления моего эмоционального состояния, были рассказы, были даже стихи, как ни странно. Правда, к стихам я обращалась, по своей всегдашней привычке, только в минуты грусти, когда становилось совсем плохо, а мечта ускользала за горизонт.
Всё закончилось практически одномоментно… Просто однажды я вышла на крыльцо дома с ощущением пугающей пустоты внутри. Влюблённость исчезла, мечтать было не о чем. Нет, с меня никто не срывал маску. Сказать по правде, сняла я её добровольно, хотя и под воздействием обстоятельств, но это уже за рамками моего исследования. И тогда же я поняла, что больше не могу писать. Вот и всё. Нет больше того бесконечного, бескрайнего потока мыслей и чувств… «Что-то главное пропало»… Слова теперь даются с трудом, где прежняя их яркость и эмоциональная насыщенность? Кто знает…
Но какая-то смутная мысль вырисовывается для определения причин возникновения и исчезновения творческого дара у женщин, которым Богом не суждено, не завещано, не предопределено всю жизнь отдаваться творчеству. Бог награждает их даром на время, и это время, увы… быстротечно.
Три составляющие, как мне кажется, обязательно должны наличествовать в таких случаях — мечта, образ и… маска.
3. Трагедия Черубины — взгляд женщины и поэта
Марина Цветаева. Живое о живом (Волошин)
… Жила-была молодая девушка, скромная школьная учительница, Елизавета Ивановна Дмитриева, с маленьким физическим дефектом — поскольку помню — хромала…
В этой молодой школьной девушке, которая хромала, жил нескромный, нешкольный, жестокий дар, который не только не хромал, а, как Пегас, земли не знал. Жил внутри, один, сжирая и сжигая.
Максимилиан Волошин этому дару дал землю, то есть поприще, этой безымянной — имя, этой обездоленной — судьбу. Как он это сделал? Прежде всего, он понял, что… боги, давшие ей её сущность, дали ей этой сущности обратное — внешность: лица и жизни. Что здесь, перед лицом его — всегда трагический, здесь же катастрофический союз души и тела. Не союз, а разрыв. Разрыв, которого она не может не сознавать и от которого она не может не страдать… Жестокий самосуд ума, сводящийся к двум раскрытым глазам. Я такую себя не могу любить, я с такой собой — не могу жить. Эта — не я…
Максимилиан Волошин знал людей, то есть знал всю их беспощадность, ту — людскую, — и, особенно, мужскую — ничем не оправданную требовательность, ту жесточайшую неправедность, не ищущую в красавице души, но с умницы непременно требующую красоты…
Руку на сердце положа, — может школьная, скромная, хромая, может Е. И. Д. оплатить по счёту свои стихи? Может Е. И. Д. надеяться на любовь, которую не может не вызвать её душа и дар? Стали бы, любя её ту, любить такую? На это отвечу: да. Женщины и большие, совсем большие поэты…
Стало быть, только женщины. Но думает ли молодая девушка о женской дружбе, когда думает о любви, и думает ли молодая девушка о чём-либо другом кроме любви? Такая девушка, с такими стихами…
Как же быть? Во-первых и в-главных: дать ей самой перед собой быть, и быть целиком. Освободить её от этого среднего тела — физического и бытового, — дать другое тело: её. Дать ей быть ею! Той самой, что в стихах, душе дать другую плоть, дать ей тело этой души.
Итак, Черубина де Габриак. Француженка с итальянским именем, либо итальянка с французской фамилией. Пусть и не пытаются выследить — не выследят никогда, если же выследят — беда и ей, и им.
В редакцию «Аполлона» пришло письмо. Острый отвесный почерк. Стихи. Женские. В листке заложен не цветок, пахучий листок, в бумажном листке — древесный листок. Адрес «До востребования Ч. де Г.»…
Они хотели видеть, она, — скрыться. И вот — увидели, то есть выследили, то есть изобличили. Как лунатика — окликнули и окликом сбросили с башни её собственного Черубининого замка — на мостовую прежнего быта, о которую разбилась вдребезги.
— Елизавета Ивановна Димитриева — Вы?
— Я.
Это был конец Черубины. Больше она не писала. Может быть, писала, но больше её никто не читал, больше её голоса никто не слыхал…
4. В заключение
Итак, мое мини-исследование подошло к концу.
Есть героиня, Черубина де Габриак, — даже две, учитывая мой собственный скромный опыт.
Есть мнения уважаемых авторов и краткий экскурс в историю литературных мистификаций.
Есть мотивы. Условно их можно разделить на две неравные части — интеллектуальные и эмоциональные. Судя по тому, что мне удалось (учитывая недостаток времени для серьёзного чтения) найти в Интернете, большинство литературных мистификаций имели интеллектуальные мотивы — либо вбрасывание новых идей, которые не хотелось до поры до времени связывать со своим собственным именем, либо фантазии на тему утерянных и найденных рукописей, объясняемые просто увлечением тем или иным автором, той или иной эпохой, либо просто желание прославиться, оставить свой след в истории. В последнем случае истинное авторство особенно и не скрывалось. Коммерческие же интересы я вывожу за рамки своих размышлений.
Мистификаций, которые заканчивались или смертью их авторов, или потерей творческого лица, или неспособностью творить после разоблачения, не так уж и много.
Такого рода мистификации, как мне кажется, имеют в своей основе исключительно эмоциональные мотивы и обусловлены именно особенностями мироощущения, характера, развития той или иной личности, какими-то глубинными надрывами и драмами. Именно с этой точки зрения интересен феномен Черубины де Габриак.
Можно обнаружить параллель между 1909 и, скажем, 1999 годами. Поэтому моё присутствие в исследовании в качестве «второй героини» — вполне обоснованно.
1909 год. Оторванность творческой элиты от рядовых россиян, даже в обеих столицах. Изысканность, рафинированность одних, легенды, связанные с их именами, — а на другой стороне, может, не менее талантливые, но менее удачливые школьные учительницы.
Однако… у них есть мечта — не то чтобы сравняться в успехе, но просто отстоять свой талант, своё право на любовь. И вот тогда школьные учительницы становятся завсегдатаями литературных клубов, кружков, а, учитывая, что живут они в российских столицах, то и кумиры их часто оказываются с ними рядом, только руку протяни, но разделяет их, увы… 40 тысяч километров, по образному выражению моего друга.
О 1999 годе и всех последующих вы знаете сами. Оторванность творческой элиты от рядовых россиян осталась, разве только развязность и вульгарность сменили прежнюю изысканность и рафинированность. И уже других «школьных учительниц» всё так же обжигает мечта — об успехе, о творческих удачах и… ну, конечно же — о необыкновенной любви. Вот об этом вечном мотиве — о необыкновенной любви — и будут мои последние размышления.
 Черубина, точнее, Елизавета Дмитриева. Маленькая, не такая уж и некрасивая, мечтательная девушка, прошедшая в детстве и ранней юности через физические и нравственные страдания, способная и ценить красоту, и творить, попадает в избранный круг небожителей — настоящих и будущих. С одной стороны — кумир, сложившееся имя, Максимилиан Волошин, с другой — начинающий, но уже отмеченный печатью будущей славы Николай Гумилёв. И так уж получилось, что оба они, в силу самых разных обстоятельств, обратили внимание на скромницу Лилю. Золушку пригласили на бал, хотя наряд ещё не был готов. У какой 22-летней девушки в этих обстоятельствах не закружится голова? Я уверена, что Черубина — это дитя Любви, а не Честолюбия. Не о славе мечтала маленькая Лиля — она мечтала об идеальном возлюбленном, а получила сразу двух. А потом — разоблачение, связанная с этим дуэль между Волошиным и Гумилёвым, эмоциональный шок, позже — разрыв с Волошиным: «Макс, слушай, и больше не буду повторять этих слов: я никогда не вернусь к тебе женой, я не люблю тебя» (из письма от 15 марта 1910 года).
Черубина, точнее, Елизавета Дмитриева. Маленькая, не такая уж и некрасивая, мечтательная девушка, прошедшая в детстве и ранней юности через физические и нравственные страдания, способная и ценить красоту, и творить, попадает в избранный круг небожителей — настоящих и будущих. С одной стороны — кумир, сложившееся имя, Максимилиан Волошин, с другой — начинающий, но уже отмеченный печатью будущей славы Николай Гумилёв. И так уж получилось, что оба они, в силу самых разных обстоятельств, обратили внимание на скромницу Лилю. Золушку пригласили на бал, хотя наряд ещё не был готов. У какой 22-летней девушки в этих обстоятельствах не закружится голова? Я уверена, что Черубина — это дитя Любви, а не Честолюбия. Не о славе мечтала маленькая Лиля — она мечтала об идеальном возлюбленном, а получила сразу двух. А потом — разоблачение, связанная с этим дуэль между Волошиным и Гумилёвым, эмоциональный шок, позже — разрыв с Волошиным: «Макс, слушай, и больше не буду повторять этих слов: я никогда не вернусь к тебе женой, я не люблю тебя» (из письма от 15 марта 1910 года).
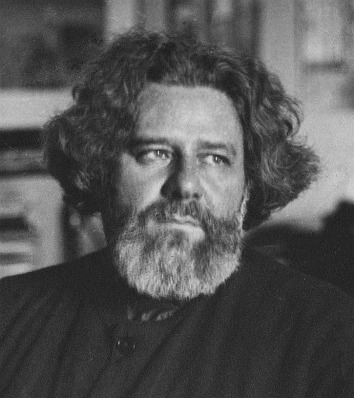 Именно поэтому её просто хорошие стихи периода до 1909 года становятся блестящими в эти несколько месяцев мистификации, потом — тишина, а дальше… дальше так могла бы писать любая, но не Черубина.
Именно поэтому её просто хорошие стихи периода до 1909 года становятся блестящими в эти несколько месяцев мистификации, потом — тишина, а дальше… дальше так могла бы писать любая, но не Черубина.
Мечта о любви и сама любовь — вот истоки феномена Черубины. Недаром живая и настоящая Елизавета Дмитриева всю жизнь терзалась страхом потери способностей к творчеству. Наверняка она осознавала степень своего дарования и потом, впоследствии, писала об ином пути, ином предназначении.
О себе самой я могу сказать то же самое. Мне отпущено Богом совсем немного, но тогда, обожжённая мечтой, я внезапно, на какое-то короткое время, стала другим человеком, по-другому чувствовала, по-другому писала. Мне бесконечно, до пронзительной боли, жаль этих месяцев, странным образом совпавших с Черубиниными… Мне больше не нужна маска. Жаль, что исчезла мечта, прошла влюблённость, а с ними — слова, которые только и могут быть продиктованы мечтой и любовью…
Черубина де Габриак:
Лишь раз один, как папоротник, я Цвету огнём весенней, пьяной ночью… Приди за мной к лесному средоточью, В заклятый круг, приди, сорви меня! Люби меня! Я всем тебе близка. О, уступи моей любовной порче, Я, как миндаль, смертельна и горька, Нежней, чем смерть, обманчивей и горче. 1909
С моею царственной мечтой Одна брожу по всей вселенной, С моим презреньем к жизни тленной, С моею горькой красотой. Царицей призрачного трона Меня поставила судьба… Венчает гордый выгиб лба Червонных кос моих корона. Но спят в угаснувших веках Все те, кто были бы любимы, Как я, печалию томимы, Как я, одни в своих мечтах. И я умру в степях чужбины, Не разомкнуть заклятый круг. К чему так нежны кисти рук, Так тонко имя Черубины? 1910 |  |
Палома, январь 2006 года