Вернуться к статье «Милость на гнев»
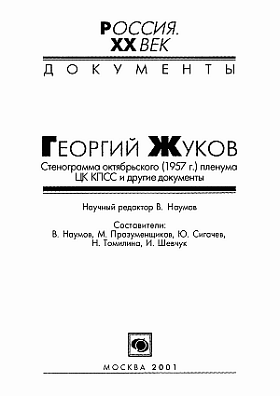 Большинство из цитируемых ниже документов (многие из которых долгое время были, в той или иной степени, секретными) опубликованы в не так давно вышедшем сборнике, который называется «Георгий Жуков. Стенограмма октябрьского (1957 г.) пленума ЦК КПСС и другие документы» (титульный лист сборника показан на картинке справа). В предваряющем сборник «Введении» его составители отмечают:
Большинство из цитируемых ниже документов (многие из которых долгое время были, в той или иной степени, секретными) опубликованы в не так давно вышедшем сборнике, который называется «Георгий Жуков. Стенограмма октябрьского (1957 г.) пленума ЦК КПСС и другие документы» (титульный лист сборника показан на картинке справа). В предваряющем сборник «Введении» его составители отмечают:
Публикуемые документы извлечены из фондов пяти архивов Российского государственного архива новейшей истории (РГАНИ), Архива Президента Российской Федерации (АП РФ), Российского государственного военного архива (РГВА), Российского государственного архива социально-политической истории (РГАСПИ) и Государственного общественно-политического архива Нижегородской области (ГОПАНО). Некоторые из них до последнего времени оставались на секретном хранении и были рассекречены специально для данного сборника.
Впрочем, некоторые материалы сборника уже были ранее опубликованы в открытой печати. Приведённые документы, по мнению его составителей, свидетельствуют о том, что маршал Жуков был «оклеветан», «обманут», подвергся «расправе», стал жертвой «репрессий» и «неправедного суда». Вне всякого сомнения, составителей сборника трудно заподозрить каком-то в негативном отношении к маршалу Жукову.
Электронную версию сборника «Георгий Жуков. Стенограмма октябрьского (1957 г.) пленума ЦК КПСС и другие документы» можно найти на сайте «Военная литература».
Кроме этого сборника, ниже приводятся цитаты из мемуаров Георгия Жукова «Воспоминания и размышления». К настоящему времени увидело свет довольно много (свыше десятка) переизданий этих мемуаров. Лишь первое издание (1969 года) является прижизненным. Как известно, тексты различных изданий книги «Воспоминания и размышления» не всегда и не во всём совпадают (впрочем, цитируемые нами фрагменты изменениям, кажется, не подвергались). Приводимые ниже цитаты из мемуаров Жукова соответствуют их последнему книжному изданию (Жуков Г К. Воспоминания и размышления. В 2 т. — М.: Олма-Пресс, 2002).
Наконец, цитируемые ниже воспоминания Анастаса Микояна, одного из старейших деятелей советской эпохи, прошедшего путь «от Ильича до Ильича без инфаркта и паралича», взяты нами из книжного издания 1999 года (Микоян А. И. Так было. — М.: Вагриус, 1999).
Примечание 1
Никита Хрущёв, отнюдь не питавший к Григорию Кулику тёплых чувств, оставил интересное воспоминание об отношении к нему Сталина:
Это был честный человек, но, конечно, ему командовать артиллерией доверить было нельзя. […] Почему его выдвинул Сталин? Потому, что когда под Сталинградом, в первые дни революции шли бои с казаками, тогда Кулик командовал артиллерией. Но в это время в этой артиллерии были три пушки и на это у него ума хватило, но чтобы командовать всей артиллерией Советского Союза, для этого большого дела у него уже ума не хватало… Я Сталину сказал об этом. Он мне ответил: нет, вы его не знаете, он храбрый человек. Верно, он храбрый, слов нет. Но храбрость нужна и солдату, а командующему помимо храбрости нужен ещё и ум, потому что от этого зависит жизнь тысячи людей…
(цитата из выступления Н. С. Хрущёва на собрании актива Московской областной партийной организации 1 декабря 1957 года — см. упомянутый выше Сборник, сс. 467—468).
Примечание 2
То, что в Генеральном штабе Красной Армии перед войной отсутствовала какая-либо единая концепция стратегической обороны, ярко демонстрирует нечаянный обмен мнениями, почти четверть века спустя состоявшийся по этому поводу между маршалами Василевским (он был перед войной заместителем начальника Оперативного управления Генштаба, как раз и занимавшегося непосредственно планированием) и Жуковым (тогда — начальником Генштаба).
В упомянутом выше Сборнике документов приводится хранящаяся в Российском государственном военном архиве машинопись интервью, которое маршал Василевский дал 20 августа 1965 года (РГВА, ф. 41107, оп. 2, д. 3). В этом интервью Василевский проводит ту мысль, что для противодействия мощному обезоруживающему удару немецких войск необходимо было сосредоточить у границ как можно больше войск Красной Армии:
Поступавшие в Генеральный штаб, Наркомат обороны и Наркомат иностранных дел данные о лихорадочной подготовке фашистской Германии к агрессии против СССР, развёртывание немцами у наших государственных границ полностью отмобилизованных, технически оснащённых и в большинстве своём имевших уже боевой опыт ведения современной войны крупных вооружённых сил врага, казалось бы, не только позволяли Генеральному штабу, руководству Наркомата обороны и Правительству понять неизбежность готовившегося нападения на нас, но и требовали в связи с этим немедленного приведения всех вооруженных сил в полную боевую готовность, немедленного проведения в стране войсковой мобилизации, сосредоточения и развёртывания на западных государственных границах всех отмобилизованных войск в соответствии с оперативным планом.
Проведение этих мероприятий в мае и даже в начале июня 1941 г., несмотря на далеко не полную готовность нового пограничного района в оборонном отношении и на то, что целый ряд решений Партии и Правительства, направленных за последние два года на резкое повышение безопасности наших войск, не были завершены, могли бы безусловно резко изменить военную обстановку в начальный период войны в нашу пользу и, по всей вероятности, спасти нашу страну от того катастрофического положения, в каком она оказалась в 1941-1942 гг.
(упомянутый выше Сборник, сс. 617—618).
Другими словами, и четверть века спустя Василевский считал, что чем больше войск и техники подставить под первый обезоруживающий удар, тем больше будет шансов на то, что этот удар скорее выдохнется.
Заочно полемизируя с Василевским, Жуков сделал на первом листе документа рукописную пометку следующего содержания:
Объяснение A. M. Василевского не полностью соответствует действительности. Думаю, что Сов[етский] Союз был бы скорее разбит, если бы мы все свои силы накануне войны развернули на границе, а немецкие войска имели в виду именно по своим планам в начале войны уничтожить их в районе государственной] границы.
Хорошо, что этого не случилось, а если бы главные наши силы были разбиты в районе гос. границы, тогда бы гитлеровские войска получили возможность успешнее вести войну, а Москва и Ленинград были бы заняты в 1941 г. Г. Жуков. 6.XI 1965 г.
(упомянутый выше Сборник, с. 682).
Другими словами, четверть века спустя Жуков придерживался совершенно противоположной, чем у Василевского, точки зрения: чем меньше подставишь войск под обезоруживающий удар, тем легче потом обороняться. Жаль только, что эта простая мысль — и, особенно, её логическое завершение — не посетила Г. К. Жукова в предвоенные месяцы, когда он занимал пост начальника Генерального штаба.
«Хорошо, что этого не случилось»… Да уж, что и говорить: всё в итоге сложилось для Красной Армии очень даже удачно…
Примечание 3
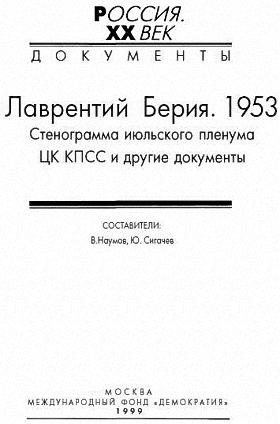 Существует документ, из которого следует, что в конце июля 1941 года судьба начальника Генштаба Жукова висела, по-видимому, на волоске. Документ этот представлен в сборнике «Лаврентий Берия. 1953. Стенограмма июльского пленума ЦК КПСС и другие документы». Сборник этот появился в 1999 году в той же самой серии, что и описанный выше сборник документов о маршале Жукове.
Существует документ, из которого следует, что в конце июля 1941 года судьба начальника Генштаба Жукова висела, по-видимому, на волоске. Документ этот представлен в сборнике «Лаврентий Берия. 1953. Стенограмма июльского пленума ЦК КПСС и другие документы». Сборник этот появился в 1999 году в той же самой серии, что и описанный выше сборник документов о маршале Жукове.
Предыстория документа такова. Как известно, сразу после смерти Сталина власть перешла в руки его ближайших соратников — Георгия Маленкова, Никиты Хрущёва и Лаврентия Берии, которые внешне демонстрировали самые дружеские чувства друг к другу. Но 26 июня 1953 года двое первых соратников организовали арест третьего (кстати, в том аресте принимал участие и маршал Жуков). Оказавшись вдруг в жёсткой изоляции и не питая никаких иллюзий насчёт намерений соратников, Берия успел написать им три (безответных) письма (датированных 28 июня, 1 и 2 июля), прежде чем соратники распорядились отобрать у него бумагу и карандаш (очки у него забрали, естественно, сразу же). В этих письмах Берия пытался напомнить им о прежней их дружбе и о своих несомненных заслугах. Все три письма находятся в Архиве Президента РФ (ф. 3, оп. 24, д. 463).
Так вот, в том же архивном деле находится и четвертушка листа, на обеих сторонах которого не очень разборчиво записан, по-видимому, не вошедший в письмо от 1 июля фрагмент или его черновик. Соответствующий текст приводится в упомянутом сборнике в примечаниях (с. 407). Берия торопится, многие слова сокращает (реконструированные составителями куски текста даются ниже курсивом). Вот что, в частности, пишет там Берия, обращаясь к Маленкову по имени:
Георгий, прошу тебя понять меня, что ты лучше других знаешь меня. Всей своей энергией я только и жил как сделать нашу Страну […]
Кобудто я интриговал перед т. Сталин[ым], это если хорошо вздуматься просто недоразумение[.] что это не верно, Георгий[,] ты то это хорошо знаешь[.] наоборот все т[оварищи] М[икоян] и Молот[ов] хорошо должны знать, что Жук[ов,] когда [его] сняли с генер[ального] штаба по наущению Мехлис[а], ведь его полож[ение] было очень опасно, мы вместе с вами уговорили назначить его командующим фронтом и тем самым спасли будущ[его] героя нашей (? — Сост.) Отеч[ественной] войны, или когда т. Жуков[а] выгнали из ЦК — всем нам было больно (далее неразборчиво. — Сост.)
Учитывая все обстоятельства, сопутствовавшие написанию этого текста, ему вполне можно доверять. Другими словами, в конце июля 1941 года, когда командующий Западным фронтом Дмитрий Павлов уже давно был отстранён от командования (и даже был уже расстрелян), а положение на Западном фронте нисколько не улучшилось (к тому времени немцы уже заняли Смоленск), именно Берия и Маленков «спасли будущего героя» от очень серьёзных неприятностей.
Разумеется, маршал Жуков в своих мемуарах представляет свою отставку с поста начальника Генштаба несколько в ином свете — по его словам, после бурного разговора со Сталиным, который не осознавал в конце июля необходимости сдать Киев, он сам попросил об отставке.
Примечание 4
В своих мемуарах, изданных под названием «Так было», многолетний член Политбюро Анастас Иванович Микоян вспоминает об этом эпизоде дважды. Вначале он относит его к вечеру 29 июня, когда встревоженный отсутствием информации Сталин, забрав с собой членов Политбюро, лично отправился в Наркомат обороны:
В наркомате были Тимошенко, Жуков и Ватутин. Жуков докладывал, что связь потеряна, сказал, что послали людей, но сколько времени потребуется для установления связи — никто не знает. Около получаса говорили довольно спокойно. Потом Сталин взорвался: «Что за Генеральный штаб? Что за начальник штаба, который в первый же день войны растерялся, не имеет связи с войсками, никого не представляет и никем не командует?»
Жуков, конечно, не меньше Сталина переживал состояние дел, и такой окрик Сталина был для него оскорбительным. И этот мужественный человек буквально разрыдался и выбежал в другую комнату. Молотов пошёл за ним. Мы все были в удручённом состоянии. Минут через 5—10 Молотов привёл внешне спокойного Жукова, но глаза у него были мокрые.
Главным тогда было восстановить связь. Договорились, что на связь с Белорусским военным округом пойдёт Кулик — это Сталин предложил, потом других людей пошлют. Такое задание было дано затем Ворошилову.
Откровенно говоря, создаётся такое впечатление, что спустя много десятилетий те события, свидетелем которых он был в те первые дни войны, несколько перемешались в памяти Микояна. Вероятно, описанная им истерика действительно случилась — но только не 29 июня. Тот самый день, когда враг ворвался в Минск, Жуков тоже вспоминает, хотя и очень скупо:
29 июня И. В. Сталин дважды приезжал в Наркомат обороны, в Ставку Главного Командования, и оба раза крайне резко реагировал на сложившуюся обстановку на западном стратегическом направлении.
Но 29 июня Сталин не мог посылать Кулика куда бы то ни было — к тому времени Кулик уже неделю как находился на Западном фронте, и о его местонахождении ничего не было известно. И так запомнившиеся Микояну слова Сталина о начальнике Генштаба, который растерялся «в первый же день войны» — они явно были сказаны именно в первый день войны, а не неделю спустя.
(Тогда, с 14-ти до 16-ти часов 22 июня, и Тимошенко, и Жуков, и Ватутин, да ещё и маршал Шапошников встречались со Сталиным в присутствии Молотова и Ворошилова. Микоян там тоже был, и он покинул кабинет спустя полчаса после начала встречи. Именно тогда и было, видимо, принято несколько важных решений, в том числе решение отправить Кулика и Шапошникова на Западный фронт, а начальника Генштаба Жукова — на Юго-Западный. Кулик был вызван к Сталину и пробыл в его кабинете заключительные полчаса встречи. Вообще, приём посетителей в своём кремлёвском кабинете Сталин прекратил в тот день необычайно рано, около 17-ти часов).
Впрочем, ведь и сам Микоян вовсе не настаивает на том, что эпизод с рыдающим начальником Генштаба случился именно 29 июня. Через несколько десятков страниц, в другом месте своих мемуаров, он вновь возвращается к этому эпизоду — в связи с появившимися к тому времени воспоминаниями Жукова. И вот там-то Микоян делает весьма существенное уточнение: произошло это «в первый или второй день войны ночью».
Это всё я диктую по памяти.
Жуков, когда писал воспоминания, пользовался всеми документами Генерального штаба. Более того, как штабист, он же каждый день все важные события всегда записывал.
Но почему-то он не написал о том дне, когда Сталин появился в Наркомате обороны в первый или второй день войны ночью, с ним были Молотов, Берия, Маленков и я, и Жуков в ответ на нападки Сталина разрыдался. Этот факт не компрометирует Жукова ни в какой степени. Зато характеризует Сталина. И всё же Жуков почему-то об этом умолчал…
Итак, первый или второй день войны ночью. Известно, однако, что вечером второго дня войны Жуков был уже на командном пункте Юго-Западного фронта (это подтверждают многочисленные документы). Стало быть, описываемый Микояном эпизод случился, скорее всего, поздним вечером 22 июня или даже ночью 23 июня. Другими словами — весь первый день войны начальник Генштаба Жуков, вопреки его позднейшим утверждениям, оставался в Москве.
Далее мы увидим, что в пользу этого говорят и другие сохранившиеся документы.
Примечание 5
Фрагменты будущих воспоминаний Жукова стали появляться уже в 1964 году, ещё до отставки Хрущёва. Так, в письме от 2 марта 1964 года (РГВА, ф. 41107, оп. 2, д. 2 — заверенная автором машинопись с пометкой: экз. № 2) маршал Жуков поделился с писателем Василием Соколовым своими воспоминиями о работе Ставки Верховного Главнокомандования. Приводя Соколову примеры «непонимания Сталиным роли Генштаба», маршал Жуков начал тогда со следующего эпизода (упомянутый выше Сборник, с. 516):
В первый же день войны, когда начала складываться для нас неблагоприятная обстановка, мне позвонил СТАЛИН, с которым состоялся такой разговор:
СТАЛИН: «Я думаю Вам надо немедля вылететь на Украину, помочь на месте командующему юго-западным фронтом КИРПОНОС. Он малоопытный командующий. На западный фронт пошлём ШАПОШНИКОВА и КУЛИКА, на северо-западный фронт ВОРОШИЛОВА. Я сейчас говорил с ХРУЩЁВЫМ, он также считает Ваш приезд необходимым».
Я спросил: «А кто же будет возглавлять оперативное управление фронтами в такой сложной обстановке?»
СТАЛИН раздражённо: «Не теряйте время, вылетайте в Киев, захватите в ЦК Украины ХРУЩЁВА и вместе с ним выезжайте на командный пункт фронта, а здесь мы как-нибудь справимся сами».
Через неделю, в связи с захватом противником Минска и с тяжёлой обстановкой, сложившейся на западном фронте, СТАЛИН вынужден был вызвать меня обратно в Ставку для осуществления ряда мероприятий по организации стратегической обороны и на Московском направлении в частности.
Итак, в 1964 году Жуков помнил, что 22 июня 1941 года Сталин позвонил ему и предложил немедленно вылететь в Киев, захватить там Хрущёва и вместе с ним отправиться на командный пункт Юго-Западного фронта (он располагался тогда в Тернополе). А спустя неделю, после оставления Минска, Сталин был вынужден вернуть Жукова в Москву. Такова версия 1964 года, собственноручно заверенная автором.
В мемуарах «Воспоминания и размышления» Жуков припомнил уже значительно больше деталей того полёта в первый же день войны. Давайте почитаем, это интересно:
Примерно в 13 часов мне позвонил И. В. Сталин и сказал:
— Наши командующие фронтами не имеют достаточного опыта в руководстве боевыми действиями войск и, видимо, несколько растерялись. Политбюро решило послать Вас на Юго-Западный фронт в качестве представителя Ставки Главного Командования. На Западный фронт пошлём Шапошникова и Кулика. Я их вызывал к себе и дал соответствующие указания. Вам надо вылететь немедленно в Киев и оттуда вместе с Хрущёвым выехать в штаб фронта в Тернополь.
Я спросил:
— А кто же будет осуществлять руководство Генеральным штабом в такой сложной обстановке?
И. В. Сталин ответил:
— Оставьте за себя Ватутина.
Потом несколько раздражённо добавил:
— Не теряйте времени, мы тут как-нибудь обойдёмся.
Я позвонил домой, чтобы меня не ждали, и минут через 40 был уже в воздухе. Тут только вспомнил, что со вчерашнего дня ничего не ел. Выручили лётчики, угостившие меня крепким чаем и бутербродами.
К исходу дня я был в Киеве в ЦК КП(б)У, где меня ждал Н. С. Хрущёв. […] Получив от Н. Ф. Ватутина по ВЧ последние данные обстановки, мы выехали в Тернополь […]
На командный пункт прибыли поздно вечером, и я тут же переговорил по ВЧ с Н. Ф. Ватутиным.
Так вот: сегодня мы можем уже почти с полной уверенностью утверждать, что и версия 1964 года, и представленная в «Воспоминаниях и размышлениях» её развёрнутая версия — это сознательная ложь. Или, если сказать помягче, — художественный вымысел.
Последний абзац версии 1964 года (о возвращении в Москву через неделю, после оставления нашими войсками Минска) был опровергнут ещё самим Жуковым в его «Воспоминаниях и размышлениях»:
Поздно вечером 26 июня я прилетел в Москву и прямо с аэродрома — к И. В. Сталину…
Итак, спустя некоторое время после письма к В. Д. Соколову маршал Жуков припомнил, что вернулся-то он в Москву вовсе не через неделю (впрочем, сейчас мы увидим, что даже и это его воспоминание, с исправленной датой, не вполне согласуется с документами).
Но разберёмся сперва с событиями 22 июня. Согласно воспоминаниям Жукова, 22 июня, незадолго до 14 часов, он находился в воздухе, где гостеприимные лётчики угощали его крепким чаем с бутербродами.
Если в это время Жуков и подкреплялся бутербродами, то лишь благодаря гостеприимству Сталина. Потому что именно в это время, с 14-и до 16-и часов 22 июня 1941 года, начальник Генштаба находился в кабинете Сталина. Он вошёл туда вместе с С. К. Тимошенко и Н. Ф. Ватутиным. Несколько раньше туда вошёл Б. М. Шапошников. В кабинете уже находились члены Политбюро В. М. Молотов, К. Е. Ворошилов и А. И. Микоян. За полчаса до окончания этого совещания у Сталина в кабинет вошёл маршал Г. И. Кулик. В 16 часов военные, все вместе, покинули кабинет Сталина (впрочем, не все: маршал Ворошилов задержался там ещё на 45 минут).
Всё это с канцелярской точностью зафиксировано в журнале записи лиц, принятых И. В. Сталиным 22 июня 1941 года. Журнал этот в настоящее время рассекречен, и записи в нём доступны теперь всем желающим (ссылка)…
Это во-первых. Во-вторых, Сталин не мог 22 июня сказать Жукову, что посылает его в Киев «в качестве представителя Ставки Главного Командования» — просто потому, что Ставка Главного Командования была образована лишь на следующий день, 23 июня 1941 года. В-третьих, Сталин не мог «примерно в 13 часов» сказать Жукову, что он уже вызывал к себе Кулика, потому что Кулик в тот день впервые появился в кабинете Сталина лишь два с половиной часа спустя, в 15:30.
Теперь что касается уточнённых воспоминаний Жукова о времени его возвращения в Москву: «Поздно вечером 26 июня я прилетел в Москву и прямо с аэродрома — к И. В. Сталину…» Это воспоминание тоже не отличается особой точностью. Согласно журналу записи лиц, принятых И. В. Сталиным 26 июня 1941 года (ссылка), 26 июня 1941 года Жуков прошёл в кабинет Сталина не «поздно вечером», а ровно в 15 часов (другими словами, из Тернополя он выехал ранним утром 26 июня). Он пробыл в кабинете чуть более часа, а в девять вечера побывал у Сталина ещё раз…
Подводя итоги: приведённый выше отрывок из книги Жукова «Воспоминания и размышления» написан очень живо, колоритно, его интересно читать и нетрудно экранизировать, но он относится, скорее, к жанру беллетристики, нежели к жанру мемуарной литературы.
Примечание 6
В предыдущем примечании было показано, что содержащееся в книге Жукова «Воспоминания и размышления» информация, будто он по телефонному распоряжению Сталина отправился из Москвы в Киев около 14 часов 22 июня — является выдумкой. Впервые, наверное, эта выдумка Жукова (о том, что 22 июня Сталин услал его из Москвы) появилась в его письме к В. Д. Соколову, которое датировано 1964 годом.
Но, быть может, Жуков покинул Москву всё же 22 июня — пусть и не в 14 часов, а, скажем, в 17 часов, через час после того, как он покинул кабинет Сталина? Правда, тогда он точно не успевал бы до исхода дня приехать вместе с Хрущёвым в Тернополь, чтобы там, в телефонном разговоре с Ватутиным, вынужденно согласиться на свою подпись под Директивой № 3, которую он и в глаза не видел, которую не готовил и против которой возражал, — именно так ведь написано в книге его воспоминаний. Но, быть может, в тот день он всё же прилетел хотя бы в Киев?..
Нет. Сегодня нет никаких сомнений в том, что весь первый день войны Жуков оставался в Москве, вылетев в Киев лишь на второй её день, 23 июня. Самое ранний известный мне документ, который это подтверждает, относится к маю 1956 года. Документ этот представляет собой проект выступления Г. К. Жукова на готовившемся тогда Пленуме ЦК КПСС. Жуков подготовил текст своего выступления на Пленуме и 19 мая 1956 года направил его Н. С. Хрущёву: «Посылаю Вам проект моего выступления на предстоящем Пленуме ЦК КПСС. Прошу просмотреть и дать свои замечания» (РГАНИ, ф. 2, оп. 1, д. 188, подлинник, машинопись).
В этом своём выступлении Жуков всю отвественность за катастрофу 1941 года возложил на Сталина. В частности, Жуков написал следующее:
Генеральный штаб, Наркомат обороны с самого начала были дезорганизованы Сталиным и лишены его доверия.
Вместо того, чтобы немедля организовать руководящую группу Верховного командования для управления войсками Сталиным было приказано: Начальника Генерального штаба на второй день войны отправить на Украину, в район Тарнополя для помощи Командующему юго-западным фронтом в руководстве войсками в сражении в районе Сокаль, Броды…
На второй день войны — не на первый! И это правда. Потому правда, что в 1956 году Хрущёв был бы последним человеком, кому Жуков мог поведать выдумку насчёт прибытия в Киев уже в первый день войны. Ибо Хрущёв был тем человеком, который лично встретил Жукова в Киеве и проделал бок о бок с ним весь путь от Киева до Тернополя.
Подготовленный Жуковым документ был направлен им (для просмотра и для замечаний) лично Хрущёву, основному свидетелю того путешествия. И указать в нём неверную дату поездки было бы в таких условиях просто невозможно.
Да и, собственно говоря, в 50-е годы Жуков и не думал ничего скрывать: повторяю, версия о 22 июня появилась несколько позже, не ранее 1964 года. Существуют ведь и другие документы, в которых без малейших разночтений называется не первый, а второй день войны.
В статье «Авиамарш. 1. Легенды и факты» мне приходилось упоминать о том, что в силу специфики мемуарной литературы (её повышенного субъективизма) наиболее бесспорными всегда являются те фрагменты воспоминаний (или, скажем, публичных выступлений), которые подают информацию не прямо, а косвенно, как бы незаметно для самого рассказчика, в стороне от главной линии рассказа, словно бы невзначай. Именно тогда рассказчик говорит то, что он действительно помнит, а не то, что ему хотелось бы помнить. Иногда это называют — «оговорки по Фрейду».
О том, когда именно он приехал в Киев по поручению Сталина, маршал Жуков в 1956 году только лишь написал (в силу ряда причин провести Пленум тогда не получилось). А в 1957 году, на знаменитом октябрьском Пленуме ЦК КПСС, Жуков это публично сказал. Давайте раскроем неправленую стенограмму этого Пленума — точнее, его вечернего заседания 29 октября 1957 года.
Это было заключительное заседание, которому предшествовало полтора дня «товарищеской» критики Жукова со стороны и партийных работников, и его коллег-маршалов. На заключительном заседании, после короткого выступления Жукова с признанием допущенных им ошибок и обещанием исправиться, слово было предоставлено Н. С. Хрущёву.
Выступление Хрущёва нередко прерывалось репликами с мест и временами напоминало не доклад какой-нибудь, а, как говорится, разговор по душам. Хрущёв затронул и такую щекотливую тему, как ответственность за катастрофическое начало войны. Вот что он сказал:
Я здесь дал реплику, я очень ценю, как военного работника т. Жукова, ценил и ценю сейчас. Я сам не слышал, но мне говорят, что Жуков заявил: «Я за время войны не имел ни одного поражения». Ну, товарищи, а кто же имел поражения, как же мог быть без поражения Маршал, который был начальником Генерального штаба, когда началась война и армия откатилась к Сталинграду, а он поражения не имел. Кто же имел?
На столь чувствительный укол Жуков среагировал моментально, ни секунды не задумываясь:
ЖУКОВ. Я на второй день войны был с Вами на Украине, а не был в Генеральном штабе. Меня тогда сняли [за разногласие со Сталиным].
ХРУЩЕВ. Георгий Константинович, неужели я этого не помню. Я помню это и помню свои слова, которые говорил…
(См. упомянутый выше Сборник, сс. 383—384. Слов, взятых в квадратные скобки, «за разногласие со Сталиным», сам Жуков не произносил: они были добавлены к его реплике не им и позднее, при подготовке уже официального стенографического отчёта — см. Сборник, с. 411).
Ещё бы Хрущёву не помнить — ведь именно он встретил тогда Жукова в Киеве, именно он потом вместе с Жуковым ехал несколько часов по непростым военным дорогам в Тернополь. И Жуков, разумеется, всё это прекрасно помнил. И когда именно состоялась эта поездка, прекрасно помнили оба, но ни один из них не придавал этому ровно никакого значения — разговор у них в ту минуту шёл о гораздо более серьёзных вещах…
 Никита Хрущёв |  Георгий Жуков |
Точно так же, вскользь, мимоходом, Хрущёв затронул интересующую нас тему и ещё раз, в своём выступлении на собрании актива Московской областной партийной организации (1 декабря 1957 года). Он даже добавил некоторые подробности:
Вы знаете, как сложилась война. Буквально на второй день мне позвонил Сталин и сказал, чтобы я вместе с Жуковым поехал в штаб фронта, который стоял в Тарнополе, и были вместе с войсками. Тов. Жуков был там дня два-три, а я непосредственно с войсками до обратного взятия Киева…
(см. Сборник, с. 467).
Ну, вот и всё… В письме В. Д. Соколову (1964 год) маршал Жуков упоминает о том, что Сталин так сообщил ему о своём разговоре с Хрущёвым: «Я сейчас говорил с ХРУЩЁВЫМ, он также считает Ваш приезд необходимым…» (см. Сборник, с. 516). Только вот Жуков — и в письме к Соколову, и в книге «Воспоминания и размышления» — переносит этот разговор в 22 июня 1941 года, тогда как в реальности он состоялся 23 июня. И пробыл Жуков в штабе Юго-западного фронта не неделю, как он написал В. Д. Соколову, а вот именно что «дня два-три»: неполный день 23 июня, потом 24 июня и 25 июня — рано утром 26 июня Жуков отправился назад, в Москву…
Директива № 3 НКО СССР пошла в войска вечером 22 июня — в свете всего сказанного выше почти нет никаких сомнений, что в её подготовке, вопреки утверждениям в книге «Воспоминания и размышления», Жуков как начальник Генштаба принимал самое непосредственное участие.
Примечание 7
О настроениях Василия Гордова, Филиппа Рыбальченко и Григория Кулика можно судить по их разговорам, «зафиксированным оперативной техникой». Так, 31 декабря 1946 года Василий Гордов, разговаривая с женой, сказал ей следующее:
Что меня погубило — то, что меня избрали депутатом. Вот в чём моя погибель. Я поехал по районам, и когда я всё увидел, всё это страшное, — тут я совершенно переродился. Не мог я смотреть на это. Отсюда у меня пошли настроения, мышления, я стал высказывать их тебе, ещё кое-кому, и это пошло как платформа. Я сейчас говорю, у меня такие убеждения, что если сегодня снимут колхозы, то завтра будет порядок, будет рынок, будет всё. Дайте людям жить, они имеют право на жизнь, они завоевали себе жизнь, отстаивали её!..
(см. Сборник, с. 642).
Об этом и о подобных ему разговорах, которые вели Гордов, Рыбальченко и Кулик, министр госбезопасности СССР Виктор Абакумов регулярно информировал Сталина. В начале января 1947 года все трое были арестованы. Все трое проходили по одному делу и были потом расстреляны.
Валентин Антонов, сентябрь 2010 года
Продолжает тему статья «Тёмное дело»