Из протокола допроса, составленного Я. Х. Петерсом и Н. А. Скрыпником 31 августа 1918 года:
Петерс: Где вас застала Октябрьская революция?
Каплан: Октябрьская революция застала в Харькове, в больнице. Этой революцией я осталась недовольна. Встретила ее отрицательно. Большевики — заговорщики. Захватили власть без согласия народа. Я стояла за Учредительное собрание и сейчас стою за него.
Петерс: Где вы учились? Где работали?
Каплан: Воспитание получила домашнее. Занималась в Симферополе. Заведовала курсами по подготовке работников в волостные земства. Жалованье получала (на всем готовом) 150 рублей в месяц.
Петерс: Стреляли в Ленина вы? Подтверждаете?
Каплан: Стреляла в Ленина я. Решилась на этот шаг еще в феврале. Эта мысль созрела в Симферополе. С тех пор готовилась к этому шагу.
Петерс: Жили ли вы до революции в Петрограде и Москве?
Каплан: Ни в Петрограде, ни в Москве не жила.
Скрыпник: Назовите полностью свое имя, отчество и фамилию.
Каплан: Меня зовут Фанни Ефимовна Каплан. По еврейски мое имя Фейга.
Загадка имени
У легендарной «убийцы Ленина» было несколько имен и фамилий. Она меняла их, как перчатки, всю свою короткую и яркую жизнь. Родившись в еврейской семье как Фейга Хаимовна Ройтблат, она воспитывалась отцом — меламедом-преподавателем Хедера (еврейской начальной школы на Волыни). Рождение ее датируется, согласно самой распространенной версии, 10 февраля 1890 года.
В 15 лет она сбежала из дома, вступила в революционно-террористическую организацию анархистов и была там известна уже под именем Дора. Ее наставник и первый любовник, скорее всего и соблазнивший провинциалку на подвиги, был Виктор Гарский, он же Яшка Шмидман, впоследствии известный как анархист Мика, а еще позднее выдававший себя за революционного венгра Зельмана Тома «из Румынии».
Вместе девочка и видавший виды авантюрист колесили по Украине в 1905 году, наслаждаясь эстетикой и выгодами от «революционной ситуации» тех лет. Гарский основал Южную группу анархистов, торговал оружием в готовой к восстанию Одессе, грабил магазины от Кишинева до Херсона. Дора помогала ему, чем могла, уже тогда перезнакомившись со многими участниками будущей драмы — подвижниками и нахлебниками Революции и Гражданской войны.
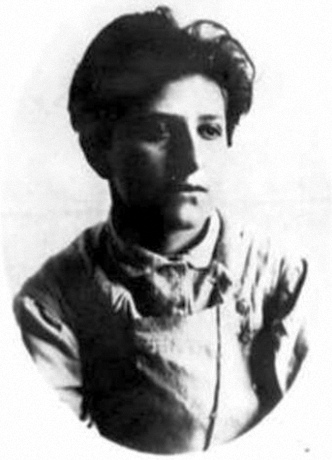 Фани Каплан в 1906 году
Фани Каплан в 1906 годуВ 1906 году, после очередного налета, у Гарского было полно денег — последней его жертвой стал швейный магазин, продукцию которого он успешно продал. Зимой Гарский переехал в Киев и занялся чем-то странным, о чем не говорил даже своей несовершеннолетней сожительнице. Наконец, Дора выяснила, что тот мастерит бомбу. Гарский путался в показаниях, для кого был этот подарок — выходило, что он хочет убить кого-то из киевских губернаторов: то ли Сухомлинова, то ли Клейгеля. Хотя вполне в его духе было, скажем, использовать эту адскую машину и для ограбления банка или ювелирного магазина.
Парочка поселилась в гостинице «Купеческая», и там вместе они принялась конструировать бомбу, пользуясь современной литературой. 22 декабря 1906 года в комнате на третьем этаже произошел сильный взрыв: девушку, которой тогда было 16 лет, ранило в голову, голень и ягодицу, а ее товарищ Мика, не получивший ни царапины, моментально, не дожидаясь полицейских, растворился в дыму вместе с деньгами. Жандармы нагрянули тут же, ими была схвачена неизвестная еврейка с паспортом на имя 22-летней Фейги Каплан.
Надеясь на свое несовершеннолетие и прикрывая друга, Дора-Фейга взяла всю вину в подготовке теракта на себя, объявив, что самостоятельно изготовила бомбу для убийства Сухомлинова. Однако ее чуть было не приговорили к виселице, ведь паспорт на ее поддельное имя указывал, что ей 22 года. Еще полгода она провела в киевской тюрьме, доказывая свой истинный возраст. Приговор был смягчен до пожизненной каторги в Нерчинских рудниках, о которых девочка в детстве читала в связи с декабристами…
Ее забили в колодки и пешком, с особо опасными преступниками, погнали через всю Россию. Фейга делала несколько неудачных попыток побега. В те времена, судя по документам, она была крепкой девушкой с отменным здоровьем, двух с третью аршинов ростом, с незначительными, на первый взгляд, ранениями: в том числе, шрамом над правым глазом.
Во время суда и ссылки она начинает носить другое имя — Фани или Фаня — популярное благодаря знаменитой балерине Фани (Франциски) Эльслер.
«Пристает» к девушке и фамилия, доставшаяся ей из поддельного паспорта: Каплан. Под этим именем она и войдет в историю, хотя не раз еще будет менять и паспорта, и имена. На турецком языке «каплан» означает «тигр»: случайное это совпадение или нет, но Фани родилась именно в год Тигра.
Воспитание Юдифи
Фамилия или, скорее, родовой знак, доставшийся Фани при столь необычных обстоятельствах, имел в еврейской среде глубокий и укрытый от «гоев» смысл. Каплан — это одно из прозвищ рода Коэнов, прямых потомков Аарона, брата Моисеева. Носителям этого рода с древних времен отводилась сакральная роль в жизни сперва Израиля, а потом диаспоры. Именно они раз в году готовили и приносили жертву во имя Господа, им отводились разные мистические функции, их род высоко ценился.
 Тициан. Юдифь с головой Олоферна
Тициан. Юдифь с головой Олоферна(фрагмент)
Была ли Фани действительно из рода Коэнов, выяснить невозможно; скорее всего, в ее семье Ройтблатов так не считали. Но в тогдашнем криминальном мире, переполненном еврейской культурой ввиду низкого социального статуса российских евреев, это было уже чем-то вроде метки, особого знака. Прозвище Каплан (в переводе с польского «капеллан», священник) и обязывало, и давало привилегии, и звало к дальнейшим свершениям.
Единственная известная женщина из рода Коэнов, воспетая Библией — это легендарная Юдифь. Простая вдовица, однажды взявшая меч и вошедшая в палаты Олоферна (великого полководца, напавшего на Израиль в Эпоху судей) — якобы, чтобы переспать с ним, отдать свою красоту в обмен на легкие условия рабства для своего племени. Однако, вышла она из шатра, уже потрясая отрубленной головой Олоферна, и войско тирана разбежалось в ужасе.
В жизни Фани этот миф сыграл действительно мистическую, определяющую роль. Но на пути, который она прошла, ее ждало еще множество испытаний, соблазнов и потерь, прежде чем она навсегда вошла на страницы истории как убийца Ленина: для кого-то злобная террористка, для кого-то грозный тираноборец.
Первые испытания постигли ее в ссылке, и это была утрата зрения. Несколько раз подряд Фани то слепла почти полностью, то начинала видеть вновь. Для хирургов, осматривавших ее рану над глазом, это было чисто медицинское явление — но не для Фани, назвавшейся Каплан.
Ведь для Коэнов крайне важно отсутствие всякого уродства, ритуальная чистота тела во время их службы. Книга «Левит» четко относит к недопустимым недостаткам — слепоту, утерю зрения. Каждый раз, когда девушка слепла, она воспринимала это как кару за неверие, отчаяние, слабость. И наоборот, обретение дара вновь видеть — как мистическую награду за силу духа. Врачи, осматривая больную каторжанку, находили, что причина заболевания — не в ранении, которое могло лишь усилить эффект, а в нервном и даже «истерическом» состоянии пациентки, то есть в психологии. И они были, безусловно, правы: не зная подноготной Торы, они безошибочно указывали на все причины, по которым Фани Каплан превращалась из полуслепой безумной узницы в сильную, красивую и здоровую революционерку, и так не раз и не два. В каторге огромную роль сыграло знакомство Фани Каплан с другой величайшей подвижницей того времени — Марией (Маней, Машей) Спиридоновой, эсеркой, будущей предводительницей Октябрьской революции и антибольшевистского Июльского восстания.
 Мария Спиридонова (на снимке слева)
Мария Спиридонова (на снимке слева)
Их дружба строилась на большом взаимном уважении, а также на авторитете и «тюремной легенде», окружавшей обеих женщин. Как самый дорогой предмет, хранила Фани шаль, подаренную ей однажды Спиридоновой. Это была единственная вещь, которую она взяла с собой после неожиданного выхода на свободу — в марте 1917 года грянула Февральская революция, и весной на волю были выпущены все политические заключенные, без разбора дел и даже вынесения оправдательных приговоров. Сотни женщин, большинство из которых были неудавшимися убийцами (впрочем, некоторые были убийцами состоявшимися), заполонили общественную жизнь России на правах воскресших героинь-мучениц. Фани Каплан, к тому времени вновь уже начинавшая слепнуть (впрочем, ей было не привыкать), вышла в шали Спиридоновой, словно Юдифь во вдовьем вретище, и дороги несли ее прямо к шатрам ассирийцев.
Впрочем, тогда она еще не знала, кому суждено стать ее Олоферном. Однако, текст одноименной книги Ветхого завета, словно рок, предсказывал время ее подвига: «восемнадцатый год (царствования Навуходоносора)»…
Нехорошая квартира
После недолгого пребывания в Чите Фани Каплан (по паспорту — Фейга) поселяется в Москве. Да не где-нибудь, а в знаменитом в те времена «доме Пигита». Среди ее подружек-каторжанок была Анна Пигит, попавшая в ссылку за подготовку покушения на самого Николая Второго. Она же приходилась и родственницей миллионеру, о котором пойдет речь дальше…
Илья Давыдович Пигит был человеком экстраординарного и эксцентричного поведения, прославился многими странными, по тем временам, выходками и инициативами. Он происходил из семьи евпаторийских караимов — газанов, но с юности увлекся коммерцией, совершенно забросив духовную стезю предков. Он стоял у истоков знаменитой табачной фабрики «Дукат» («Дуван + Катык», тоже караимские фамилии), был управделами, а потом сделался и ее директором. В Москве он купил и перестроил дом № 10 по Большой Садовой — скандально известный невероятными приключениями его постояльцев. Пигит сдавал квартиры внаем всем подряд — и знати, и богеме, и нищим, которые ему чем-то приглянулись и явно не могли вносить плату в положенный срок. Российскую богему так и тянуло в этот дом. К тому же, в подвале всегда дешево продавалась водка, сигары и наркотики.
 «Нехороший дом» с «нехорошей квартирой» на пятом этаже
«Нехороший дом» с «нехорошей квартирой» на пятом этаже
Булгаков увековечил одну из квартир того дома как «Нехорошую квартиру», в которой поселился Воланд со свитой, а самого Пигита — как Эльпита. Здесь, в будущем «доме 13, Эльпит-Рабкоммуна», юный миллионер Рябушинский стрелял в себя от несчастной любви, выжил, после чего немедленно отправился добровольцем на фронт Первой мировой (откуда судьба забросила его сначала в белогвардейский Крым, а потом и во Францию). Останавливались и затевали свое авангардное детище — «Бубнового валета» — художники Кончаловский и Лентулов, предавался творческому отдыху тесть Кончаловского — Суриков (вскоре после этого также уехавший в Крым). Отчаянно прогуливал уроки в Московском Худучилище будущий режиссер Якулов, подрабатывая в этих апартаментах оформлением магазинных вывесок. В его «нехорошей» мастерской Есенин познакомился со своей роковой подругой — Айседорой Дункан. В одной из квартир готовились первые выпуски издания имажинистов — «Мезонин поэзии».
Всего же, по сведениям краеведов, здесь перебывало столько знаменитостей, что всех и не перечислить: Маяковский, Шаляпин, Нежданова, Алексей Толстой, Пастернак, Всеволод Иванов, Маршак, Москвин, Ливанов, Прокофьев, Коненков, Качалов, Мейерхольд, Таиров, Андрей Белый, Алиса Коонен, Сологуб, Луначарский, Фальк, Олеша… И уж конечно, сам Булгаков, воспевший дом в тогда еще «Дьяволиаде».
Соседи жаловались на «нехороший дом» и «нехорошие квартиры» с нехорошими жильцами постоянно — там мелькали странные личности, подозрительные девушки с обезумевшими от принятия каких-то средств глазами, что ни день туда заваливались полицейские, чтобы выяснить причины выстрелов, шума, скандалов, выбрасывания из окон каких-то вещей.
 Фани Каплан (в среднем ряду, крайняя справа, у окна) в 1917 году
Фани Каплан (в среднем ряду, крайняя справа, у окна) в 1917 году
Среди этого безумного племени и поселилась Фани Каплан. Она прожила несколько месяцев в той самой «нехорошей» квартире, где потом обитал Воланд, после чего неожиданно и загадочно уехала в Евпаторию: говорили, что на лечение от имени Временного правительства, ведь Керенский проявлял особую заботу о бывших политкаторжанах.
Однако евпаторийская поездка Фани, вероятно, была связана с еще одним событием, подготавливаемым в том самом «нехорошем доме».
Евпаторийские приключения Фани Ройтблад
В самом разгаре была затеянная Пигитом «авантюра», как тогда ее называли, с основанием караимского города. Еще в 1912 году в желтой прессе появились сведения, будто Илья Давыдович потратил безумную сумму — миллион рублей — на покупку гигантского, но совершенно безжизненного участка под Евпаторией. Якобы, для основания там караимской колонии, нового, «образца до Навуходоносора», Иерусалима (тогда было модно учение, согласно которому караимы покинули Город во время вавилонского нашествия и колонизировали Крым; миф перекликался и с легендой об исчезнувших коленах Израилевых, и с мифом о Юдифи и Олоферне). Поселок, со временем долженствующий вырасти в караимскую столицу, должен был называться Имдат Пигит, «Помощь Пигита». Пигит незамедлительно отверг все эти слухи, чем вызвал острую реакцию среди караимов, которые было уже построили фантастические планы на новую колонию. Между тем, в 1915 (или 1916) году Илья Давыдович умер, а его завещание долгое время не было найдено. Подозревали, что гостеприимица Фани Каплан — родственница покойного, почти приемная дочь, Анна Пигит — утаивала документ от общественности. Эта простая и внешне наивная женщина (демонически изображенная все тем же Булгаковым в виде «Аннушки, разлившей масло» на Патриарших прудах), была активной и фанатичной деятельницей партии эсеров. Завладев завещанием дядюшки, она поступила по долгу и чести своей партии — обнаружив там гигантские суммы и имущественные владения, завещанные покойным караимской общине, сразу же сообразила, что нельзя отдавать процесс в чужие руки. Слухи оказались небеспочвенны: в 1918 году завещание было официально обнародовано, хотя в условиях Гражданской войны оно уже утратило всякий смысл.
Колония, пусть и с ярко выраженным мессианским уклоном и этническим цензом, должна была послужить орудием в руках партии эсеров. Задуманный покойным как новый Иерусалим, в не менее радикальной концепции социал-революционеров Имдат Пигит мог стать живым воплощением мечты о крестьянском рае и всеобщей справедливости.
Ради интереса отметим, что смесь обоих идей, которые так и не состоялись в случае с Имдат Пигит, была осуществлена в грандиозном проекте еврейской колонизации Крыма трудовыми коммунами — прообразами израильских «халуцим» и «кибуцев». Между концом одного проекта и началом другого почти нет временного раздела — уже в 1918 году, проживая в Симферополе, один из отцов сионизма Иосиф Трумпельдор пишет классическую работу «Ха Галуц» и бросает российским евреям клич заселять Тавриду, как «испытательный полигон» для будущих поселений в Земле Обетованной. Не одно, а сотня таких поселений возникли на протяжении 1920-х, и просуществовать им было суждено до 1942 года, чтобы затем быть полностью изничтоженными нацистским режимом…
Фани Каплан отправляется в Евпаторию, всего в нескольких километрах от затевающегося предприятия, для разведки и переговоров с нужными людьми. В первую очередь — в обход караимской общины, которая испытывала монархическое либеральное влияние, и для установления контактов с эсерами Евпаторийского уезда (которые, в свою очередь, были в основном не караимами, а евреями и крымчаками).
И Фани, похоже, блестяще проваливает это задание. В санатории «Дом каторжанина» слепнущая девушка знакомится с уездным врачом Дмитрием Ульяновым — родным братом будущего диктатора Ленина. Между ними завязываются романтические отношения.
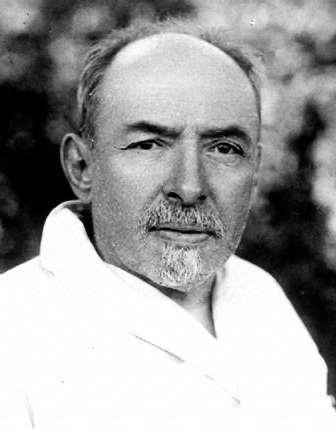 Дмитрий Ульянов, младший брат Ленина
Дмитрий Ульянов, младший брат ЛенинаОбраз слепой или теряющей зрение женщины в те времена был окружен в общественном сознании и культуре не только и не столько состраданием, сколько ореолом таинственности, эротичности и страсти. Особенно крепко засел этот архетип у внешне некрасивых мужчин, которым подобный случай давал возможность быть оцененным девушкой иным, «внутренним» или даже «истинным» взором, когда глазам предстает не борода, морщины и фигура, но голос, ум, характер.
Нет никаких сведений о том, чтобы Фани вела переговоры со знатоками земельного вопроса на местности. А вот в обществе будущего наркома ее видели часто, и просто трогательные отношения переросли во что-то явно более серьезное. Вместе с Дмитрием Ульяновым она много раз покидала больницу, выезжая летними вечерами на Тарханкут, путешествуя на лошадях, купаясь в диком море и любуясь, насколько позволяло зрение, отблесками заката. Можно, правда, расценивать все это и так, что Фани пользовалась услугами лекаря, выезжала за город, исследовала местность, которой интересовались наследники Пигита.
Влюбленные не раз останавливались на ночь в трактирах на Беляусе и Донузлаве, а днем, возвращаясь в Евпаторию, они ходили по ресторанам и дегустировали прекрасное вино (любителем и ценителем которого Дмитрий Ульянов мог себя считать с полным правом). По «Дому каторжника», а потом и маленькому городу быстро расползлись слухи об отчаянной парочке, которая стали изюминкой светского сезона того безумного (во всех смыслах) лета 1917 года.
Дмитрий Ульянов задался целью во чтобы то ни стало спасти, вернуть Фани полноценное зрение. Он направляет ее в Харьков к народному врачу, прославленному тогда на всю Украину офтальмологу Леонарду Гиршману.
Возвращение зрения и утраченные иллюзии

Недавно (2009 год) в сквере возле Харьковской глазной клиники Леонарду Гиршману установили памятник из гранита и бронзы, увековечивший народного офтальмолога. На постаменте изображены врач и слепая девочка, с надеждой вглядывающаяся в небо.
Такой полуслепой пациенткой была и Фани Каплан, сразу же проникшаяся удивительной заботой великого врача-окулиста. Говорят, Гиршман строго следовал древнему принципу — «лечить не болезнь, а больного» — чем часто пренебрегали его коллеги-современники.
Он совершил чудо — вернул ей зрение настолько, что Фани стала отчетливо видеть лица и превратилась из инвалида в просто близорукую. Гиршман безошибочно определил причину заболевания — нервы, моральное истощение, жизненные невзгоды и сделал все, чтобы Фани почувствовала себя счастливой, полноценной, исполненной сил и жажды жизни. Хирургическая корректировка была лишь дополнением к «исцелению души».
Когда лечение подходило к концу, судьба вновь проделала с Фани удивительный зигзаг. Гуляя по городу и наслаждаясь открывавшимися ее глазам пейзажами, она была буквально столкнута с тротуара другим прохожим — хоть и имевшим здоровыми оба глаза, но увлеченным чем-то своим. Каково же было их взаимное изумление, когда оба узнали друг друга!
Это был тот самый Гарский, Мика, ее первая и едва ли не единственная любовь, тот, кто бросил ее на каторгу и так и не вытянул на свободу. От неожиданности он растерялся, ведь за много лет, похоже, он и думать забыл о 16-летней девушке, отдавшей за него на каторге лучшие годы жизни. Позже он все-таки был пойман на одном из чисто криминальных дел и посажен, и уже в полиции он дал показания, снимавшие с Фани все обвинения в подготовке бомбы — якобы, она зашла в комнату случайно, для свидания. Однако, дело уже было закрыто, и Фани даже не знала о возможном его пересмотре: из-за вмешательства полковника Новицкого, который сам был жертвой нескольких покушений «бомбисток», приговор, вопреки закону, не пересматривался. К тому времени Гарский вовсю выдавал себя за «политического», что в первые месяцы революции было крайне модно, и пользовался от этого всеми благами: он уже стал местным комиссаром по распределению продовольствия, в то голодное и трудное время одевался с иголочки, едва ли не лучше всех в Харькове.
Первое, нечаянное свидание прошло счастливо. Фани не попросила своего сердечного друга ни о какой материальной помощи, хотя и крайне нуждалась в этом. Договорились на завтра о новом свидании. Фани вспоминала, как отдала почти священную для себя реликвию — шаль, подаренную лично Машей Спиридоновой — в обмен на кусок мыла, которым обмылась, чтобы завтра пахнуть фиалками.
 Слепая цветочница из фильма Чаплина «Огни большого города».
Слепая цветочница из фильма Чаплина «Огни большого города».
«Вы?» — спрашивает она. Он кивает головой: «Теперь вы видите?..»
Аромат ли, исходивший от тела, или иные обстоятельства, но вечер и ночь любви прошли идеально. Однако, уже назавтра несколько отрезвевший Гарский холодно сознался, что давно вычеркнул Фани-Фиалку из своей жизни, — жизни, которая у него явно с тех пор наладилась и была полна счастья и довольства, с чем он не думал расставаться.
Последующий ужас, чувство пустоты известны нам из показаний Фани в ЧК, за считанные часы до вынесения ей смертного приговора. «Я вернулась в больницу, села в кресло и хотела закутаться в шаль, потому что я всегда в ней пряталась от холодной тоски. Но шали у меня больше не было, а было это мыло. И я не могу простить себе. Не прощаю».
Не в силах продолжать лечение (игра слов и судьбы: «не в силах больше никого видеть» — это про женщину, только что вернувшую себе зрение!), Фани возвращается в Крым. Теперь, изменив Дмитрию Ульянову, она уже не ищет с ним встречи и избегает Евпатории. Да и задание по основанию Имдат Пигита она, похоже, уже надежно провалила.
Юдифь во стане ассирийских воинов
Фани поселяется в Севастополе и устраивается на чтение курсов для малограмотных земских кадров. Но спустя всего несколько месяцев становится свидетельницей всех зверств, учиненных, вкупе с большевиками и левыми эсерами, ее когда-то «единомышленниками»-анархистами. Как известно, в те дни сотни офицеров и мещан были жестоко убиты, над телами жертв изощренно глумились, кровь и смерть заполняли восставший Севастополь.
Фани с ненавистью встретила Октябрьскую революцию и пробовала сбежать от ее ужасов в Симферополь. Однако, революционная волна докатывается и до губернской столицы. Как в калейдоскопе, сменялись режимы: буржуазный «совет народных представителей», татарская «Директория», большевистско-анархистская «Таврийская ССР». Тяжкие бои между татарскими «эскадронщиками» и краснознаменными моряками заканчиваются захватом города, расстрелом сперва татар, а потом и всей «контры». Не успел наспех сформированный исполком приступить, кроме террора, к каким-либо реформам, как полуостров охватила новая паника: идут немцы.
Мещане в те времена были в плену пропагандистского мифа «войны до победного конца», и частью этого мифа были якобы чудовищные зверства немцев по отношению к мирному населению — по злой иронии, они словно за двадцать лет предвосхищали действительные, в будущем, преступления совсем другой, уже не кайзеровской армии. Все, кого Фани видела в те кровавые месяцы из лагеря «красных», устремились к Перекопу и больше не вернулись: впереди немецкой армии шли дивизия и Запорожский корпус «армии УНР» под командованием атаманов Петра Болбочана и Зураба Натиева. Украинцы предприняли дерзкий и неожиданный штурм Сиваша и ударом с тыла уничтожили красногвардейцев. Бежавшее в Алушту советское правительство было схвачено уцелевшими татарскими «эскадронщиками» и расстреляно с жестокостью — так «красным» (большевикам), «черным» (анархо-коммунистам) и «серым» (эсерам) припомнили недавнее убийство ими первого муфтия и президента Директории — Челебиджихана.
Украинские полки захватили все железнодорожные станции, 24 апреля ими без боя был взят Симферополь, а 29 апреля — Севастополь (по очередной иронии истории, в тот же день правительство УНР, пославшее Болбочана, было свергнуто немецким ставленником — гетманом Скоропадским). Вслед за ними в Крым неспешно входили немцы, спустя несколько дней их командующий Эйхгорн уже вступил в конфликт с украинцами и выдворил их из Таврии, используя давление на киевское правительство.
 Генерал-фельдмаршал Эйхгорн во время переговоров о Брестском мире
Генерал-фельдмаршал Эйхгорн во время переговоров о Брестском мире
В Крыму на короткое время установился бардак, названный в учебниках «Брестской системой». Большевики из Москвы заключили странный, дикий, противоестественный «мир» с кайзеровской империей, и те же самые люди, которые подлежали военно-полевому суду на землях Крыма и Украины, были неприкосновенны и были вне опасности, стоило лишь им пересечь границу Советской России.
Фани Каплан, воспользовавшись неразберихой, так и поступила — минуя Харьков, давший ей и счастье, и горе, она отправилась на поезде на Украину, а оттуда — в Москву. Теперь уже — вновь под своим родовым именем Дора Ройдман, хотя паспорт ее был купленным и, конечно же, фальшивым.
Выйдя к воротам Ветилуи
Немного достоверного известно о нескольких неделях пребывания Фани проездом в «гетьманате» Скоропадского. Эсеровское подполье там было сильно, как никогда, и впоследствии кремлевские сыщики настойчиво выпытывали у нее о связях в «Скоропадии». Фани унесла эту тайну с собой, отказавшись отвечать именно на эти вопросы. Видимо, ей было о ком жалеть и кого спасать.
В Киеве Фани оказалась в самой гуще политической борьбы внутри партии украинских социал-революционеров, к тому времени расколовшейся на два крыла: левые (боротьбисты) и правые (централисты). В этой неразберихе первенство, в силу экстремальных событий, досталось более радикальным боротьбистам, доктрина которых более соответствовала лихой обстановке тех месяцев. Боротьбисты тщательно готовили покушение на немецкого фельдмаршала Эйхгорна, только что прославившегося почти бескровным (с точки зрения Германии) взятием Крыма и фактическим установлением протектората над гетманской Украиной.
 «Тем, кто не знал усопшего генерал-фельдмаршала, трудно
«Тем, кто не знал усопшего генерал-фельдмаршала, трудно
оценить, какая это великая и горькая утрата для Украины»
Практически одновременно должны были произойти убийства: в Киеве — фельдмаршала-диктатора, в Москве — посла Мирбаха. Но связь в те времена была самым слабым местом заговорщиков, к тому же украинские боротьбисты и российские левые эсеры были самостоятельными, практически только лишь союзными группами.
Украинским эсерам остро нужен был связной, пользующийся доверием московских товарищей. Фани идеально подходила на эту роль — вспомним ее каторжную дружбу с «матерью» левых эсеров, Марией Спиридоновой.
Мы не знаем, участвовала ли Дора Ройдман в операции эсера Донского, в конце концов все же убившего ненавистного Эйхгорна — есть судебное показание 1922 года от его брата, что он, якобы, лично напутствовал «эсерку Каплан» на убийство Ленина; однако там же содержатся и явно фантастические сведения, будто он поддерживал связь и выполнял указания Эйхгорна, убитого братом 30 июля 1918 года.
 Киевский театр, где Фани Каплан якобы стреляла в Новицкого
Киевский театр, где Фани Каплан якобы стреляла в Новицкого
Между тем, здесь Фани совершает свое второе в жизни покушение — в гетманском Киеве, наполненном бежавшими отовсюду бывшими царистами, она встречает полковника Новицкого. Того самого, который не дал хода оправдательному расследованию, когда Фани была на каторге, и положил дело под сукно. В свое время ему удалось избежать пули бомбистки Фрумы Фрумкиной, но теперь в Киевском театре его настигла пуля Фани Каплан. После этого выстрела ей была только одна дорога — в Совдепию.
Алишер Ильясов, февраль 2012 года