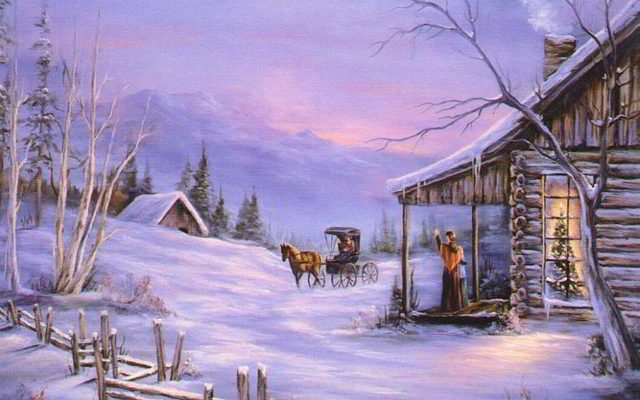
Еще он не сшит, твой наряд подвенечный, и хор в нашу честь не споёт… А время торопит — возница беспечный, — и просятся кони в полёт. Ах, только бы тройка не сбилась бы с круга, не смолк бубенец под дугой… Две вечных подруги — любовь и разлука — не ходят одна без другой. Мы сами раскрыли ворота, мы сами счастливую тройку впрягли, и вот уже что-то сияет пред нами, но что-то погасло вдали. | Святая наука — расслышать друг друга сквозь ветер, на все времена… Две странницы вечных — любовь и разлука — поделятся с нами сполна. Чем дальше живём мы, тем годы короче, тем слаще друзей голоса. Ах, только б не смолк под дугой колокольчик, глаза бы глядели в глаза. То берег — то море, то солнце — то вьюга, то ласточки — то вороньё… Две вечных дороги — любовь и разлука — проходят сквозь сердце моё. |
В следующем году исполнится двадцать пять лет со дня выхода на экран фильма Бориса Токарева — романтической мелодрамы «Нас венчали не в церкви». В основу сценария легла история жизни Сергея Силовича Синегуба. Он родился в Екатеринославской губернии, в деревне Приволье, учился в Петербургском технологическом институте. Поэт и один из первых народников-пропагандистов, Сергей Синегуб был осуждён по «делу 193-х», приговорён к каторге, жил на поселении в Чите, затем в Благовещенске, а последние свои годы провёл в Томске, где сотрудничал в местной прессе.
Лариса Васильевна Чемоданова, дочь сельского священника, была моложе Синегуба на пять лет. Она родилась в селе Ухтым Вятской губернии (ныне это Богородский район), окончила Вятское епархиальное женское училище, пыталась неудачно убежать из родительского дома, чтобы учиться в Петербурге. Поскольку «народники» стремились к освобождению и от «домашнего гнёта», Синегуб посчитал своим революционным долгом «освободить от семейного деспотизма» совсем незнакомую ему девушку, мечтавшую «служить народу».
В то время среди революционеров практиковалось заключение с этой целью фиктивного брака. Именно так решили поступить 21-летний Сергей Синегуб и Лариса Чемоданова, которой тогда не исполнилось ещё и семнадцати. Синегуб влюбился в невесту с первого взгляда, но народнические принципы не позволяли ему признаться в любви, даже когда Лариса приехала в Петербург и стала жить с мужем в коммуне: «Это было бы преступлением, посягательством с моей стороны на её свободу, так как я был её законный муж». В итоге Лариса сама призналась Сергею в любви и по окончании «процесса 193-х» поехала за осуждённым мужем в Сибирь.
Сергей Синегуб умер в октябре 1907 года от разрыва сердца. Лариса Чемоданова умерла в Томске, пережив мужа на 16 лет.
Музыку к фильму «Нас венчали не в церкви» написал Исаак Шварц. Песню «Любовь и разлука» на слова Булата Окуджавы исполнила Елена Камбурова.
Об исполнителях песни
Так получилось, что стихи Булата Окуджавы я полюбила совсем недавно. Но вот Камбурова…
Её песни я люблю всю свою сознательную жизнь. В моём городе было старое здание филармонии, которое потом снесли, как и многие другие милые моему сердцу здания. Именно в эту старую филармонию я пришла однажды на концерт Микаэла Таривердиева. Он много пел в тот вечер сам, аккомпанируя себе на рояле, а потом так объявил следующую песню: «Поёт Леночка Камбурова».
С той давней поры я старалась не пропускать её приездов в наш город, постоянно встречая уже в другом месте — в одном из городских клубов, в небольшом зале — одни и те же, как мне казалось, лица людей, для которых Елена Камбурова стала не просто певицей, а частью их внутреннего мира.
Из интервью с Людмилой Сенчиной:
Мне позвонил замечательный композитор Исаак Шварц: «Людочка, мы с Булатом Шалвовичем Окуджавой просим записать нашу новую песню к фильму «Нас венчали не в церкви». Мы написали её специально для вас». Конечно, я была польщена, но режиссёр картины заупрямился: «Голос Сенчиной — слишком узнаваемый, нам по сюжету нужно что-то другое!» Я сперва расстроилась, но в концертах-то петь «Любовь и разлуку» мне никто не запрещал. Вещь заметили и номинировали на фестиваль «Песня-83». Я всё же позвонила Шварцу и робко спросила: есть ли у меня права так широко исполнять этот романс, ведь в фильме пела не я? «Людочка, мы же с Булатом Шалвовичем вам русским языком объяснили: эту песню мы писали специально для вас. Пойте, где пожелаете!» А Сашу Малинина, моего старого знакомого по группе Стаса Намина, я сама благословила на исполнение этого романса. Он, собираясь на конкурс в Юрмалу [в 1983 году — Палома], попросил моего разрешения показать там именно «Любовь и разлуку»…
«Как бы мальчика не звали,
звали девочку Любовь»
Ещё в детстве она представляла себя героиней подобной открытки. Позже, в девичьих мечтах, рисовала картинки, укладывающиеся между «Здесь лапы у елей дрожат на весу, здесь птицы щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком лесу…» и «Ах, только бы тройка не сбилась бы с круга, не смолк бубенец под дугой…». Ожидание затянулось, а потом появился он — к сожалению, несвободный, к сожалению, занятой делами, проблемами…
В общем, ждала она его напрасно, сама это понимала прекрасно, но вот… никто так не соответствовал её представлениям о единственном мужчине в жизни.
За ним она пошла бы хоть в Сибирь, хоть в ту хижину с открытки, лишь бы позвал только. Но вот не звал… А потом наступил развал страны, и их бывшую общую родину перерезали пограничные столбы, шлагбаумы, визы… Однажды он должен был ехать на поезде в Варшаву, на симпозиум. Где-то в Минске — пограничный контроль. Она знала номер поезда и номер вагона. Этого было достаточно, чтобы она ринулась следом в этот чужой теперь Минск, без копейки денег, с обратным билетом в сумке и одним только желанием — увидеть его. Она-то понимала, что его не выпустят из вагона, её не впустят в поезд. Но представила себе, как минут двадцать (боже мой, целых двадцать минут!) просто будет смотреть на него через окно вагона, молча, ведь сказать тоже ничего нельзя, можно только смотреть. Вот такая мечта была, такая фантазия.
Проиграв мысленно эту ситуацию ещё дома и потом в поезде, она смотрела на него и плакала, а пограничники окружили вагон, всё было безнадёжно заперто, и только окно…
Она стояла на перроне, пока могла видеть хвост последнего уходящего на Запад вагона, потом погуляла по городу, в котором была однажды в студенческие годы, и вернулась домой вечерним поездом, так и разъехавшись — он на Запад, она на Восток. Вот такая Любовь и Разлука.
Палома, декабрь 2006 года
«Звали девочку Чудачка,
звали мальчика Чудак»
Они впервые встретились весной, без малого четверть века назад, в маленьком южном городке. Говорили они немного, стеснялись и боялись оба, и однажды утром она с маленькой дочерью тихо-тихо прошла мимо его двери, чтобы исчезнуть из его жизни навсегда.
…На автовокзал он успел за четверть часа до отправления. Увидев его издали, она вспыхнула, обрадовалась. А потом они вежливо распрощались, помахали друг другу ручками, и автобус увёз её в «уездный город Н.», к мужу.
Уехала — и теперь уже далеко… И прости, и уже навсегда, навеки… Потому что где же теперь они могут встретиться? — «Не могу же я, — подумал он, — не могу же я ни с того ни с сего приехать в этот город, где её муж, где её трёхлетняя девочка, вообще вся её семья и вся её обычная жизнь!» — И город этот показался ему каким-то особенным, заповедным городом, и мысль о том, что она так и будет жить в нём своей одинокой жизнью, часто, может быть, вспоминая его, вспоминая их случайную, такую мимолётную встречу, а он уже никогда не увидит её, мысль эта изумила и поразила его.
Впрочем, это Бунин. Но похоже. Совершенно для него неожиданно она позвонила через три дня после его возвращения в Москву, к жене и маленькому сынишке. И его тогда поразило, что она, не спрашивая, вдруг перешла на «ты» — ведь он не смел и надеяться на это…
А потом были письма «до востребования», много писем. «Завидую, честное слово, завидую той женщине, которая рядом с тобой! Ведь это ж надо быть такой счастливой: варить тебе борщ, гладить твои рубашки!..» Его письма она по-смешному хранила в супружеской спальне, под матрацем. А он… он тоже где-то хранил.
…В пустынной, суровой и промозглой Москве, только что простившейся с Брежневым, они встретились вновь. «Встреча была коротка, в ночь её поезд увёз». Они вместе читали Бунина, мечтали летом поехать вместе к морю, и, вернувшись домой, она в Новый год начала вдруг шить себе новый сарафан. «И если я это уже не просто я, а мы, — клянусь, я не прикоснусь к себе и пальцем, я оставлю всё как есть!..»
А в середине января он получил от неё неожиданное письмо: «… Но к морю я поеду только лишь с дочерью». «И хор в нашу честь не споёт…» — ответил он той самой строчкой Окуджавы. «Наверняка не споёт!» — твёрдо отрезала она. Что-то сломалось…
Он искал её в Геленджике, в Гаграх, в Сочи. На другой день по приезде в Сочи он купался утром в море, потом брился, надел чистое бельё, белоснежный китель, позавтракал в своей гостинице на террасе ресторана, выпил бутылку шампанского, пил кофе с шартрезом, не спеша выкурил сигару. Возвратясь в свой номер, он лёг на диван и выстрелил себе в виски из двух револьверов.
Нет-нет! Это не о нём. Это опять Бунин. А он… он не искал её в Геленджике. В Геленджике он был сам, потому что она упомянула в письме, что остановится с дочерью в Туапсе, но где именно — не написала. «В гостинице»…
И он, словно надеясь на что-то, желая быть к ней поближе, хотя бы на одном берегу моря, каждый день ходил на местную почту, спрашивая, нет ли ему чего-нибудь «до востребования».
…Через год в одном из ставших редкими писем она неосторожно обронила, что едет повышать квалификацию в Харьков. Этого было достаточно, чтобы он её там нашёл. И она призналась ему, что ждала его тогда, в Туапсе…
И его поразила сверкнувшая в ней, словно вспышка молнии, ненависть к «москалям».
Это была их последняя встреча. С тех пор прошло почти четверть века, их давно уже разделили государственные границы, и как она прожила все эти годы, он не знает.
Валентин Антонов, декабрь 2006 года
И ещё один год не вернуть никакими кошмарами, Он ушёл под гармонь, как уходит на фронт эшелон…