Это, наверное, самое известное во всей мировой литературе стихотворение было написано в Англии в конце XVI века, а в 2009 году исполняется ровно четыреста лет с того времени, как оно было впервые опубликовано. В 66-м сонете Шекспира всего два предложения, всего два.
Первое, очень длинное:
Tir'd with all these, for restful death I cry, as to behold desert a beggar born, and needy Nothing trimm'd in jollity, and purest faith unhappily forsworn, and gilded honour shamefully misplac'd, and maiden virtue rudely strumpeted; and right perfection wrongfully disgrac'd, and strength by limping sway disabled, and art made tongue-tied by authority, and Folly (Doctor-like) controlling skill, and simple Truth miscall'd Simplicity, and captive good attending Captain ill.
И второе, очень короткое:
Tir'd with all these, from these would I be gone, save that to die, I leave my love alone.
Оба предложения начинаются у Шекспира совершенно одинаково: «Tir'd with all these…» — «Устав от всего этого…». Да и продолжения их — тоже очень похожи: «… for restful death I cry…» («… я взываю к успокоительной смерти…») и «… from these would I be gone…» («… я бы ушел отсюда…»).
Первое предложение исполнено огромной внутренней силы, которую можно почувствовать, даже если просто читать, не вникая в смысл. Слово следует за словом подобно удару хлыстом:
… and art made tongue-tied by authority, // and Folly (Doctor-like) controlling skill…
Второе предложение — полная противоположность первому. Оно мягкое, оно лиричное. Оно грустное. Послушаем, как звучит сонет Шекспира в оригинале:
За четыре века создано множество переводов 66-го сонета — на множество языков. Существует едва ли не сотня его переводов и на русский язык. Более удачные, менее удачные или совсем неудачные — ни один из переводов не смог в полной мере передать настроение шекспировского стиха.
Наиболее известен перевод Маршака:
Зову я смерть. Мне видеть невтерпёж Достоинство, что просит подаянья, Над простотой глумящуюся ложь, Ничтожество в роскошном одеянье, И совершенству ложный приговор, И девственность, поруганную грубо, И неуместной почести позор, И мощь в плену у немощи беззубой, И прямоту, что глупостью слывёт, И глупость в маске мудреца, пророка, И вдохновения зажатый рот, И праведность на службе у порока.
Всё мерзостно, что вижу я вокруг… Но как тебя покинуть, милый друг!
Это именно перевод, а не подстрочник. И, что бы там иногда ни говорили, это блестящий перевод: Маршаку, в общем, удалось передать по-русски всю энергетику первого предложения оригинала, сохранив при этом и его смысл. Получилось вполне самостоятельное русское стихотворение, а такие психологически точные и по-шекспировски лаконичные и хлёсткие фразы, как, например, «неуместной почести позор» — это просто великолепно. (Впрочем, тут есть и другие мнения: «Надо очень хотеть, чтобы откопать смысл этой строчки…». Вероятно, каждый способен оценивать только на основании своего личного опыта. Мне, повторяю, это определение Маршака кажется идеально точным.)
То, что Маршаку не удалось перевести сонет, как у Шекспира, всего двумя предложениями, двумя противопоставлениями, громким и тихим, — это, конечно, досадно, но это ещё полбеды. Очень обидно, но в двух местах перевод Маршака просто-напросто режет слух. Во-первых, слово «невтерпёж» в первой строке, которое совершенно выбивается из общего ряда, даже по смыслу. Да и потом: «уж, замуж, невтерпёж» — эта тройка со школьных лет намертво сидит в памяти каждого говорящего по-русски, придавая этому слову недопустимый, в данном случае, оттенок.
Во-вторых, ну совсем не получилась у Маршака концовка — суетливая какая-то, слащавая, искусственная, выглядящая инородным вкраплением. Неужели при этом не слышится: «Милый друг, наконец-то мы вместе! // Ты плыви, наша лодка, плыви…»? Ужасно.
Впрочем, справиться со вторым шекспировским предложением редко кому из переводчиков удавалось. Есть в этом предложении какая-то загадка, что-то неуловимое. То смысл всей фразы при переводе меняется на прямо противоположный: «я бы и покинул этот нехороший мир, но мне жаль расставаться с моей любовью», — тогда как у Шекспира: «но я не могу оставить свою любовь наедине со всем этим». То смысл-то хотя и остаётся, но вот стилистически получается нечто фальшивое, вот то самое «ты плыви, наша лодка, плыви».
В другом известном переводе 66-го сонета, переводе Пастернака, смысл шекспировского «второго предложения» как раз не искажён. Более того, и начало «второго предложения» буквально повторяет начало всего сонета — подобно тому, как это было сделано в оригинале. Вот перевод Пастернака:
Измучась всем, я умереть хочу. Тоска смотреть, как мается бедняк, И как шутя живётся богачу, И доверять, и попадать впросак, И наблюдать, как наглость лезет в свет, И честь девичья катится ко дну, И знать, что ходу совершенствам нет, И видеть мощь у немощи в плену, И вспоминать, что мысли заткнут рот, И разум сносит глупости хулу, И прямодушье простотой слывёт, И доброта прислуживает злу.
Измучась всем, не стал бы жить и дня, Да другу трудно будет без меня.
Всё тут вроде бы неплохо, и формальная структура 66-го сонета тут вроде бы бережно сохранена, но вот мне почему-то перевод Пастернака нравится даже меньше, чем перевод, выполненный Маршаком. А почему? А потому что нет в нём той самой энергетики оригинала. Ведь любое стихотворение не сводится лишь к простому набору слов, нет: все слова вместе создают какое-то новое качество, настроение, образ, характер.
Так вот, у Пастернака слова вроде бы и похожи на те, что у Шекспира, но произносит их совсем другой человек. Этот самый другой человек тоскует, а не страдает. Этого человека задевает, что «шутя живётся богачу», тогда как «мается бедняк» — а у Шекспира-то ведь написано совсем другое: у Шекспира противопоставляются не просто бедняк и богач, а «достоинство, рожденное в нищете» и «пустое Ничтожество», живущее в веселии. Этот самый другой человек у Пастернака тоскует от того, что ему иной раз приходится «доверять и попадать впросак», тогда как образ, созданный Шекспиром в 66-ом сонете, страдает от того, что «чистейшая вера злосчастно обманута».
Понимаете? Где у Шекспира чистейшая вера, там у Пастернака попадать впросак. Где у Шекспира девичью честь грубо проституируют («strumpeted», от старинного слова strumpet — проститутка), там у Пастернака она лишь невыразительно и деликатно катится ко дну. И где у Шекспира истинное совершенство оклеветано и опозорено, там у Пастернака всего лишь ходу совершенствам нет.
«Дайте ходу пароходу»… Короче говоря, вылепленный Пастернаком поэтический образ находится, увы, в опасной близости с одним из песенных персонажей Высоцкого:
… У них денег куры не клюют, А у нас на водку не хватает…
А так — формальная структура шекспировского сонета вроде бы и сохранена… Но ведь в переводе, на мой взгляд, самое главное — это образ (настроение, характер), созданный автором в одной культурной среде, аккуратно и адекватно перенести в совсем иную культурную среду, с иными, быть может, языковыми особенностями и поэтическими традициями. И тут всё важно: подстрочник шекспировского сонета (содержание в чистом виде) читать столь же скучно, как и слушать 66-й сонет, скажем, на языке азбуки Морзе (а ведь пытались сделать даже и такие «переводы»).
Но «перевод» 66-го сонета Шекспира на морзянку — это, конечно, из области курьёзов. Другое дело, что кроме непосредственно переводов, существует очень много подражаний этому сонету, пересказов, «вариаций на тему» и просто стихотворных откликов. На протяжении веков чеканные шекспировские строки вдохновляли самых разных поэтов на создание стихотворений, в которых иногда бывает довольно трудно разглядеть сколько-нибудь близкую их связь с 66-м сонетом.
Вот, например, стихотворение Слуцкого, которое так и называется — «Сонет 66». Среди сотен других оно было найдено в бумагах поэта и опубликовано спустя четыре года после его кончины:
Желаю не смерти, но лишь прекращенья мученья, а как ему зваться, совсем не имеет значенья. Желаю не смерти — того безымянного счастья, где горести ближних не вызывают участья. Где те, кто любили меня, или те, кто спасали, меня бы забыли и в черную яму списали.
Конечно же, это никакой не 66-й сонет. Борис Слуцкий был талантливым поэтом и человеком очень непростой судьбы. Вот как написал о нём Евтушенко:
… В 1959 году Слуцкий неожиданно для всех выступил против Пастернака во время скандала с «Доктором Живаго». Это был его единственный постыдный, трагически необратимый поступок. Многие бывшие почитатели отвернулись от поэта. Но самое главное, он этого сам себе не простил. Муки совести этого прекрасного, лишь однажды оступившегося человека довели его до тяжкой душевной болезни…
И в критический, безмерно тяжкий для него момент жизни обратился поэт к бессмертному произведению Шекспира, к заключительной его мысли, словно бы полемизируя с нею: «Где те, кто любили меня, или те, кто спасали, меня бы забыли и в черную яму списали»…
Но вот уже четыре столетия живут среди людей другие строки — сдержанные и негромкие, но исполненные огромной нравственной силы: «Да, я устал от всего, что вижу вокруг, и я желал бы исчезнуть… но я не могу оставить свою любовь наедине со всем этим».
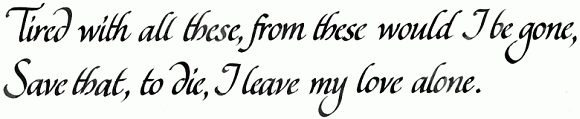 66 сонет Шекспира звучит в исполнении Джона Гилгуда
66 сонет Шекспира звучит в исполнении Джона ГилгудаВалентин Антонов, июнь 2008 года