  |
Я прошу, хоть ненадолго,
Боль моя, ты покинь меня.
Облаком, сизым облаком,
Ты полети к родному дому,
Отсюда к родному дому.
Берег мой, покажись вдали
Краешком, тонкой линией.
Берег мой, берег ласковый,
Ах, до тебя, родной, доплыть бы,
Доплыть бы хотя б когда-нибудь.
Где-то далеко, где-то далеко
Идут грибные дожди.
Прямо у реки, в маленьком саду
Созрели вишни, наклонясь до земли.
Где-то далеко, в памяти моей,
Сейчас, как в детстве, тепло,
Хоть память укрыта
Такими большими снегами.
Ты гроза, напои меня,
Допьяна, да не до смерти.
Вот опять, как в последний раз,
Я всё гляжу куда-то в небо,
Как будто ищу ответа…
|   |
Стихи Роберта Рождественского. Музыку написал композитор Микаэл Таривердиев. В фильме «Семнадцать мгновений весны» эту песню исполнил Иосиф Кобзон.
Вспоминает Муслим Магомаев:
Я записал песни к фильму, но, увы, мой голос не соединился с образом советского разведчика Штирлица-Тихонова. С песней «Мгновения» ещё можно было покрутить и так и этак — спеть пожёстче или более проникновенно. А с песней «Я прошу, хоть ненадолго…»… Как Микаэл Таривердиев ни изощрялся, ни варьировал, всё-таки это интонационно, мелодически напоминало «Историю любви» Фрэнсиса Лея. Эту песню я так и спел — по-американски, по-фрэнксинатровски…
Татьяна Михайловна просто сказала: «Нет» (эта маленькая женщина умеет сказать с жёсткой безапелляционностью). И предложила переделать. Я отказался: я такой, какой есть, и подделываться под разведчика не могу, не хочу и не буду. Я никогда ни под кого не подстраиваюсь…
Потом мне дали послушать другую запись — Кобзона…
Манера пения и характер голоса Иосифа Кобзона как нельзя лучше совпали с образом Штирлица. Я так и сказал Лиозновой, послушав запись Иосифа: «Не надо было, Татьяна Михайловна, приглашать меня. Вы же прекрасно знали и мой голос, и мою манеру». И она согласилась…
Вспоминает Микаэл Таривердиев:
На эти песни пробовались многие певцы. Мулерман, Магомаев. Муслим даже записал их. Но когда стали ставить в картину, не понравилось. И мы стали переписывать их заново, уже с Иосифом Кобзоном… Он настоящий профессионал. Кстати, он записал ещё несколько песен для этого фильма, которые в него так и не вошли, но были выпущены на гибкой пластинке. У меня их нет — ни нот, ни записи. И вообще я сейчас даже не помню, какими они были. А Магомаев обиделся на меня тогда страшно. Дело не в том, что он пел плохо или хорошо. Просто для этой картины нужен был не его голос. Голос Кобзона попал в изображение, прямо в «десятку».
Сравните варианты исполнения этой песни Муслимом Магомаевым и Иосифом Кобзоном.
Страна помнит её как жену Штирлица,
безмолвную красавицу с грустными глазами…
Когда же дыханье и тело едины, Понять не составит труда: Мы неразделимы и необходимы, И это — уже навсегда.
Не верю в богов, во второе рожденье, Ни в скорый и праведный суд. Надежда одна — что в последнем паденьи Летящие руки спасут.
А если и им не дано дотянуться Иль силы не хватит в крылах, — Спасибо судьбе, что смогла улыбнуться, И жизни — за то, что была.
(Е. Клячкин)
Из интервью Элеоноры Шашковой журналу «Город женщин», 16 февраля 2005 г.:
— Это говорит Зиновий Гензер, — раздался голос в трубке. — Помнишь меня?..
Он стал вторым режиссёром Лиозновой и подбирал для «Мгновений…» всех актёров, включая Тихонова.
 — Элла, есть один эпизод. Если хорошо сыграешь, тебя полюбит вся страна. Посылаю машину.
— Элла, есть один эпизод. Если хорошо сыграешь, тебя полюбит вся страна. Посылаю машину.
На площадке выясняется, что моя роль без слов! А надо играть любовь! «Куда смотреть?» — спрашиваю. «В камеру». «Не умею я на железку смотреть с любовью»…
— Вдруг открывается дверь, входит Тихонов и говорит: «Я же должен знать, с кем завтра играть». Сел рядом с камерой. Если бы не глаза в глаза — ничего бы не получилось! На этих двухстах метрах пленки я прожила с ним целую жизнь: любила, прощалась, ждала, надеялась и верила…
На творческих вечерах меня всё время спрашивали: «Вы, наверное, были влюблены в Тихонова? Ведь так сыграть невозможно!» Но я же актриса! Люблю партнёра на съёмочной площадке до умопомрачения, умереть могу за любовь…
Эти два дня я любила Тихонова до самозабвения… Я любила его. Целых два дня.
Из интервью Вячеслава Тихонова «Учительской газете»:
В «Семнадцати мгновениях» сцена встречи Штирлица с женой вообще бессловна, но зрители сами сочиняли то, что не было сказано, что говорилось глазами. А что говорилось? Может, слова прощения за то, что жизнь сложилась так, что мы годами не видимся. А её глаза говорят тебе в ответ: я всё знаю, я верю, я люблю, держись, я жду. Может, это, может, другое, я не знаю…


Саму эту историю — случай из своей жизни — мне рассказал однажды разведчик, наш резидент в Англии, с которым я подружился… Oстался рассказ, который меня потряс простотой своей, опасностью. Ведь просчитать надо было всё до минуты: встречу и прощание, таившие в себе возможность глотнуть так необходимого воздуха, когда видишь любимого человека и читаешь глазами, читаешь…
Когда мы начинали снимать картину, я думал: в романе у Семёнова профессионального сколько угодно. Но где взять человеческое, то, чему люди будут верить, сверяя увиденное с собой, собственным опытом, когда герой не разведчик, а тоскующий о другом человеке мужчина?..
Вспоминает Микаэл Таривердиев:
Консультанты картины (одним из них был знаменитый Цвигун, конечно, он проходил в титрах под псевдонимом) рассказывали нам, что во время войны, а может быть и раньше, разведчики, которые по многу лет работали за рубежом, годами не могли встречаться с домашними, жёнами, детьми. Из-за этого с ними происходили психологические срывы. Для того чтобы их поддержать, устраивались так называемые бесконтактные встречи. Ну, скажем, жену разведчика привозят в какую-то нейтральную страну. Разведчик приезжает туда же. И на вокзале, или в магазине, или в кафе в какой-то определённый час они видят друг друга, не общаясь, не разговаривая, чтобы не подвергнуть разведчика опасности. Эти женщины приезжали легально.
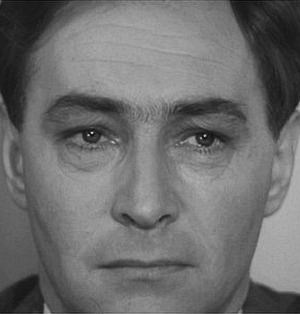 Эпизода такой встречи с женой в сценарии не было. Сделать её решила Лиознова, уже по ходу съёмок. В кафе входит жена разведчика с покупками, в сопровождении человека из посольства, даже не зная, что именно в этот день, прямо сейчас она увидит своего мужа. А в этом кафе уже находится Штирлиц (все детали были воссозданы по рассказам).
Эпизода такой встречи с женой в сценарии не было. Сделать её решила Лиознова, уже по ходу съёмок. В кафе входит жена разведчика с покупками, в сопровождении человека из посольства, даже не зная, что именно в этот день, прямо сейчас она увидит своего мужа. А в этом кафе уже находится Штирлиц (все детали были воссозданы по рассказам).
Сопровождающий просит посмотреть вправо, только незаметно, и она видит мужа. Малейшая реакция может стоить ему жизни. Когда мне рассказали о таких встречах, меня это просто потрясло. И я написал музыку. Восьмиминутную прелюдию. Этот эпизод в фильме получился беспрецедентным по длительности звучания музыки. Восемь минут и ни одного слова. Сопровождающий говорит: «Сейчас я отойду, куплю спички», — и начинается сцена, где Штирлиц встречается с женой взглядами. На этом месте были убраны все шумы — все реальные звуки кафе, звон посуды, стук приборов, все скрипы, проходы — весь звук был вынут, звучала только музыка.
Сцена встречи с женой по кинематографическим меркам бесконечно большая. Она идёт почти двести пятьдесят метров, то есть около восьми минут, без единого слова, без всякого движения, только наезды камеры. По всем киношным стандартам, это должно быть бесконечно скучно, это просто невозможно, и по идее должно было быть сокращено метров до двадцати. Лиознова оставила двести пятьдесят и выиграла партию.
Композицию Таривердиева «Встреча с женой» легко можно найти в Интернете.
«Здравствуй, нежная моя…»
Ты у меня одна, словно в ночи луна, Словно в году весна, словно в степи сосна. Нету другой такой ни за какой рекой, Ни за туманами, дальними странами…
(Ю. Визбор)
Как рассказал писатель Юлиан Семёнов в своём романе «Пароль не нужен», 22-летний Максим Максимович Исаев, профессиональный разведчик, познакомился с 17-летней дочерью профессора Сашенькой Гаврилиной в 1922 году, во Владивостоке.
… Исаев вспомнил, как однажды он сказал Дзержинскому:
— Не могу влюбиться, Феликс Эдмундович, потому что моей профессии противна любовь к женщине. Она расслабляет. Для меня любовь не спорт, который помогает набирать силы, для меня это нечто громадное, силы отбирающее…
Но… Максиму — 22, Сашеньке — 17.
… Сашенька — ломкая, быстрая, тоненькая — шла к Исаеву, чуть не бежала. С мороза румяная, красивая, раскосоглазая, словно японочка, улыбчивая; лицо доброе, есть такие женские лица: только глянь — и сразу делается радостно, даже если перед тем тоска была…
Позже Юлиан Семёнов в романе «Семнадцать мгновений весны» напишет уже не о Максиме Максимовиче Исаеве, а о Максе Отто фон Штирлице:
… Двадцать три года назад, во Владивостоке, он видел Сашеньку последний раз, отправляясь по заданию Дзержинского с белой эмиграцией — сначала в Шанхай, потом в Париж. Но с того ветреного, страшного, далёкого дня образ её жил в нём; она стала его частью, она растворилась в нём, превратившись в часть его собственного Я…
Но существует ещё один роман — «Нежность», события которого относятся к 1927 году, ко времени, когда М. М. Исаев должен был на долгие годы перевоплотиться в Макса фон Штирлица. И после пятилетнего отсутствия, связанного с выполнением задания на Дальнем Востоке, он всё же встречается в Москве со своей женой и, надо полагать, сыном, будущим разведчиком, с которым Штирлица сведёт судьба всего лишь однажды, уже как с равноправным соратником в борьбе против гитлеровской Германии.
Москва 1927 года, встреча на Казанском вокзале:
… Ох как же я люблю её, господи! Только я люблю её такой, какой она была тогда на пирсе — испуганной, моей, до последней капельки моей, и всё в ней было открыто и принадлежало мне; и было понятно мне загодя — когда она опечалится, а когда рассмеётся, а теперь прошло пять лет, и она всё такая же, а может, совсем другая, потому что я другой, и как же нам будет вместе? Говорят, что расставания — проверка любви. Глупость. Какая, к чёрту, проверка любви! Это ж не контрразведка — это любовь. Здесь всё определяет вера.
Если хоть раз попробовать проверить любовь так, как мы научились перепроверять преданность, то случится предательство более страшное, чем случайная ночь с кем-то у неё или шальная баба у меня.
— Здравствуй, нежная моя…
— Господи, Максимушка, Максим Максимыч… Максим…
— Здравствуй, Сашенька. Ну, как ты?
Что же я говорю-то?! Стёртые слова какие, стёртые, словно гривенники! Разве такие слова я говорил ей все эти годы, когда она являлась мне? Отчего мы так стыдимся выражать самих себя? Неужели человек искренен, лишь когда говорит себе одному, тайно и беззвучно?!
… Прямо разрывает сердце — как она смотрит на меня. И руки на груди сложила, будто молится. Девочка, любовь моя, как же мне все эти годы было страшно за тебя…
— Боже, как же я люблю тебя, Максим, я, наверное, только сейчас поняла, как я тебя люблю…
— Почему только сейчас?
— Ждут — воображаемого, любят — своё…
(Юлиан Семенов, «Нежность»)
 «Любовь моя, — начал писать он, — я думал, что мы с тобой увидимся на днях, но, вероятно, это произойдёт несколько позже…»
«Любовь моя, — начал писать он, — я думал, что мы с тобой увидимся на днях, но, вероятно, это произойдёт несколько позже…»
Когда он попросил связника подождать, он знал, что он сейчас напишет Сашеньке… Штирлицу хотелось написать ей, как однажды в Париже, на книжных развалах, он случайно прочёл в растрёпанной книжечке:
Мне хочется домой, в огромность Квартиры, наводящей грусть. Войду, сниму пальто, опомнюсь, Огнями улиц озарюсь…
«Как можно словами выразить мою тоску и любовь? — продолжал думать он. — Они стёртые, эти мои слова, как старые монеты. Она любит меня, поэтому она поверит и этим стёртым гривенникам…
Нельзя мне ей так писать: слишком мало мы пробыли вместе, и так долго она живёт теми днями, что мы были вместе. Она и любит-то меня того, дальнего, — так можно ли мне писать ей так?»
— Знаете, — сказал Штирлиц, пряча листочки в карман, — вы правы, не стоит это тащить вам через три границы. Вы правы, простите, что я отнял у вас время…
(Юлиан Семенов, «Семнадцать мгновений весны»)
Cколько есть земных женщин, познавших любовь земную, потерявших её, но сохранивших ей верность душой и телом. Сколько было 20-летних вдов, так и оставшихся в своём добровольном, осознанном вдовстве, но не изменивших однажды сделанному выбору.
Для них тоже, видимо, существовало это понятие — святости своего тела, пусть даже только они сами ощущали эту святость.
Странные мысли возникают иногда, не правда ли?..
Палома, апрель 2006 года