Итак:
Автор слов — Анри (Андрей) Волохонский. Слова написаны в ноябре 1972 г. на услышанную с пластинки музыку. Навеяны атмосферой в мастерской Б. Аксельрода.
Автор музыки — Владимир Вавилов. Музыка написана примерно в 1967—68 гг. Более точно — определить не удалось…
К таким выводам относительно песни-шлягера Бориса Гребенщикова пришёл израильтянин Зеэв Гейзель. Пришёл в результате многомесячных поисков: примерно с июня 2003 года по июнь 2004 года. Его очерк, составленный в лучших традициях забытого ныне жанра устного рассказа, мастером которого был Ираклий Андроников, написан живо и увлекательно. Он изобилует бытовыми и на первый взгляд несущественными деталями (типа: как писать итальянский предлог, «да» или «ди»? как правильнее написать: «kanzona»? «kanzone»? «canzone»? «canzonа»? а вот на одно раскидывание гуглей было получено 64 ссылки, на другое — 80, а на третье — все 811…).
Всё это, а также упоминание к месту и не к месту КПСС, евреев, Корчного и т. д. и т. п. создаёт непередаваемо тёплую и вкусную атмосферу, когда хочется закрыть глаза и просто слушать, слушать и слушать эти бархатные доверительные интонации…
Ознакомиться с очерком г-на Гейзеля можно здесь, здесь, здесь, здесь и здесь. Наверняка есть и ещё воспроизведения — я особенно не интересовался. Все публикации появились практически одновременно, где-то в конце октября и в ноябре 2005 года.
Вспомним, кстати, широко известное исполнение песни «Город» (группа «Аквариум»):
Несколько слов о тексте песни. Боюсь, это наименее интересная часть всего исследования. Приведу лишь мнения двух женщин, высказанные ими в комментариях в очерку.
Natalie M. Rezonoff, выступающая под никнеймом «oguretz»:
… Я подозревала, что авторство Анри Волохонского очевидно, по крайней мере должно быть очевидно всем, кто имел хоть какое-то отношение к группе «Левиафан» в конце семидесятых… по крайней мере один человек (других не помню, к сожалению, по причине моего весьма юного возраста в описываемый период времени), упомянутый в конце текста, этого не знать просто не мог.
И Юлия Беломлинская (она же «poor_ju»):
Вы чего с ума сошли? хвост всегда говорил что автор слов — анри…
Попутно не откажу себе в удовольствии сопоставить два текста. Вначале — Анри Волохонский:
Тебя там встретят огнегривый лев И синий вол, исполненный очей, С ними золотой орёл небесный, Чей так светел взор незабываемый.
И потом — Иоанн Богослов:
4:7. И первое животное было подобно льву, и второе животное подобно тельцу, и третье животное имело лице, как человек, и четвёртое животное подобно орлу летящему.
4:8. И каждое из четырёх животных имело по шести крыл вокруг, а внутри они исполнены очей; и ни днём, ни ночью не имеют покоя…
Хотя это сопоставление с «Откровениями», главы 4:7 и 4:8, и бросает определённую тень на вывод о несомненном авторстве Анри Волохонского, я всё же склонен согласиться с г-ном Гейзелем и с очаровательными женщинами — не в пользу св. Иоанна Богослова. (Ведь подумать только — Кто за ним стоит! как раз поэтому и соглашаюсь…)
Музыка — дело другое. Ведь именно благодаря ей песня стала у нас не только визитной карточкой самого Бориса Гребенщикова, но и символом целой эпохи. Тут надо быть предельно корректным и внимательным, ибо это затрагивает очень многих.
Если отвлечься от захватывающих дух подробностей в описании самого процесса поиска, то получается, что г-н Гейзель отказывает «божественному» Франческо Миланскому в авторстве в силу следующих обстоятельств.
Нет никаких сведений в Интернете о том, что Франческо написал «Канцону». А ведь именно так — «Канцона и танец» — это произведение названо там, где оно, по-видимому, появилось впервые: на виниловой пластинке образца не то 1970 года, не то 1971-го, не то 1972-го — разные, но одинаково уважаемые источники, во многом согласные друг с другом, в датировке пластинки почему-то расходятся.
Чтобы не быть голословным, приведу взятые наугад ссылки: 1970 — статья о В. Ф. Вавилове, написанная под большим влиянием г-на Гейзеля, если даже и не им самим, поскольку включает в себя раскавыченные цитаты из очерка, 1971 — статья Сергея Севостьянова о Вавилове, 1972 — текст очерка г-на Гейзеля. И замечание вскользь: а почему не искали вместе с «танцем»? заранее предполагали, что это компиляция? но почему? Слово г-ну Гейзелю:
Оставим историю моих терзаний. Важен результат — 0 (ноль). Пересечение отсутствует.
Итак, «Канцона» не пересекается с Франческо из Милана. Вывод, сделанный г-ном Гейзелем ещё в июне 2004 года, однозначен. Франческо:
не является автором какого-либо произведения, называемого «Канцона» (ноты которой есть в Интернете).
Кстати говоря, вот образец этих нот:

Послушаем, как звучит «Канцона» в исполнении В. Ф. Вавилова:
При подготовке той самой пластинки В. Ф. Вавилов из непонятных соображений объединил «Канцону» в одну композицию с другим произведением. На пластинке непосредственно вслед за «Канцоной» звучит вот такой «Танец»:
Вторым доказательством (или «отказательством»? как лучше сказать?) является то, что музыка «Канцоны» не характерна для сочинений Франческо — как, впрочем, и для XVI века вообще. Таково общее мнение специалистов.
Здесь уместно воспроизвести примечательный телефонный разговор, состоявшийся между автором очерка и одним из специалистов, доктором Леви Шептовицким. Г-н Гейзель спрашивает, нет ли среди известных д-ру Шептовицкому произведений «божественного» Франческо такого, которое называется «Канцона» или что-то в этом роде.
Ответ специалиста цитирую по тексту очерка:
«Канцона» по-итальянски, собственно, означает «песенка». Какую тебе «песенку» надобно?
После пояснения, что вопрос касается той «песенки», которая впоследствии стала шлягером Гребенщикова, последовала весьма бурная реакция со стороны специалиста, сопровождавшаяся «шквалом», как можно понять, ненормативной лексики.
Отдышавшись, д-р Шептовицкий продолжил:
Зеэв, ты ведь не совсем глухой. Ты ведь, кажется, когда-то даже брал в руки скрипку. Ну не могла же математика истребить в тебе нормальное человеческое начало! Так послушай внимательно сам: какая тут… лютня, какая Италия, какой Франческо! Это явно из другой оперы!
В дальнейшей беседе специалист выразил мнение, что «Канцона» является, скорее всего, русской песней. По свидетельству г-на Гейзеля, он «упорно» проводил такую мысль:
Это — даже не подделка. Автор то ли не знал, что подделывать, то ли просто этим не собирался заниматься
Вывод от июня 2004 года категоричен. Франческо:
не является автором музыки этой песни.
Третье и последнее «отказательство» делает ненужными первые два: Франческо Миланский не является автором мелодии, поскольку её автор — Владимир Фёдорович Вавилов. Точка.
Позвольте! Однако ведь это «отказательство» вроде бы само нуждается в доказательстве? Пожалуйста. Доказательством служит то, что Вавилов, составитель пластинки, был к ней ближе всех остальных; что он в кругу знакомых имел репутацию мистификатора; что в его авторстве уверена Я. Р. Ковалевская, которая много лет вела класс гитары в музыкальном училище им. М. Мусоргского и помнит Вавилова, а также и другие специалисты, например, проживающий в США украинец Роман Туровский и «питерский специалист» по гитаре А. С. Бруштейн; наконец, что дочь Вавилова так ответила на единственный вопрос г-на Гейзеля — «почему?»:
Отец был уверен, что сочинения безвестного самоучки с банальной фамилией «Вавилов» никогда не издадут. Но он очень хотел, чтобы его музыка стала известна. Это было ему гораздо важнее, чем известность его фамилии
И это всё. Вывод: Франческо не является автором мелодии в силу того, что её автор — человек со «скромненькой» такой фамилией Вавилов (генетик мирового уровня Н. Вавилов и президент Академии наук СССР С. Вавилов потрудились недостаточно, чтобы сделать эту фамилию звонкой).
Карты на столе, господа, — посмотрим же, что в них!
«Какую тебе „песенку“ надобно?» — устало спросил д-р Шептовицкий у г-на Гейзеля. А и в самом деле, что имел в виду последний, упорно ища пересечение Франческо и «Канцоны» и подсчитывая при этом расползающиеся ссылки? Какую именно песенку Шуберта мы найдём, задавая в строке поиска «шуберт» и «песня»? А найдём мы много чего! Например, на первой же странице увидим ссылку на статью из журнала «Инфекции и антимикробная терапия». Но как раз с Шубертом пример мой явно неудачен, с «божественным» Франческо всё обстоит гораздо хуже. Читаю в одной из статей, посвящённых лютневой музыке XVI столетия (выделено мною):
Canzones are imitations of polyphonic French chansons. Sometimes these imitations are so good, that there is doubt whether there actually is a vocal example or not, in other words whether it is a canzone or an intabulation.
Canzones often have several sections with polyphonic imitations, usually beginning with a half, quarter, quarter theme. These sections are often contrasting, for example polyphony alternating with chordal passages, or alternating duple and triple time sections. Sometimes canzones have a simple scheme like ABA or AAB.
Canzones are a later invention than fantasias. The first canzones for lute appear in the books of Barberiis (1546 and 1547) and Rotta (1546). But of these canzones it is not clear whether they really are canzones, they might be intabulations. From about 1570 canzones appear more regularly.
Так. Первые канцоны для лютни появились в книгах не ранее 1546 года, а становление их как лютневого жанра произошло четверть века спустя.
А Франческо когда умер? В 1543 году. Так какую же такую «канцону» мы так упорно искали? И удивительно ли то, что ничего толком не нашли?
Но на всякий случай запомним, что «канцоны» для лютни — изобретение более позднее, нежели «фантазии», и что, стало быть, творчество «божественного» Франческо должно изобиловать именно «фантазиями».
Как мы помним, Франческо «не является автором музыки этой песни». А что, собственно, г-н Гейзель имеет в виду, утверждая это? То, что «божественный» Франческо не писал музыки для шлягера Гребенщикова?..
Г-н Гейзель — математик. Он лучше других должен понимать всю катастрофичность путаницы терминов. Ведь совершенно очевидно без всякого детективного расследования, что Франческо со своей лютней не мог полтысячелетия назад написать никакой современный шлягер!
Но тогда возникает законный вопрос: а почему же его столько времени все дружно называли автором? Что они все имели в виду?..
Вот, скажем, есть одна не очень ныне уважаемая песня, которая начинается словами «Die Fahne hoch! Die Reihen fest geschlossen…». Послушайте её красивую мелодию:
Об этой мелодии пишут так: широко распространено мнение, что она восходит к опере «Joseph», которую в 1807 году написал выдающийся французский композитор Etienne Mehul; упоминают связь с гораздо более поздними песнями XIX столетия, «How Great Thou Art» и «Der Abenteurer», а также со старой матросской песней «Zum letzten Mal wird der Appell geblasen…».
Сравните прослушанную только что мелодию, например, с мелодией песни «How Great Thou Art» — известного и уважаемого во всём мире христианского гимна XIX века:
А вот, пожалуйста — мелодия «Der Abenteurer», старинной песни о немецком юноше, которого влекло море и приключения, но судьба к которому поначалу оказалась не очень благосклонна:
Едва ли кому придёт в голову называть автором музыки христианского гимна «Великий Бог», или песни о юном искателе приключений, или даже старинной матросской песни — 20-летнего берлинского штурмфюрера СА Хорста Весселя, который и написал слова, и обработал музыку песни «Die Fahne hoch». Разумеется, точно так же никому не приходит в голову и утверждение, будто красивую музыку официального гимна нацистской партии «Die Fahne hoch» написал некий французский композитор, современник и последователь Бетховена и Моцарта. Потому что одно дело — найти музыкальную идею, и совсем другое дело — усвоить эту идею, аранжировать, транспонировать, переложить и Бог знает что ещё. «То, что я нажил, — гений прожил»…
Ну так что — у Франческо нет никакой музыкальной идеи, лежащей в основе нашей песни? Слово г-ну Гейзелю (22 июня 2004 года; выделено мною):
По поводу этой песни я лично считаю установленным (в границах доказуемости утверждений в истории культуры), что музыка этой песни никакого отношения к Франческо Канова да Милано и вообще к лютневой музыке итальянского средневековья не имеет.
Итак, абсолютно никакого отношения не имеет, и нет никакой музыкальной идеи, которая лежала бы в основе мелодии нашей песни…
Как мы помним, для творчества Франческо характерны не «канцоны», а «фантазии». Вот начало фантазии № 30 «божественного» Франческо:
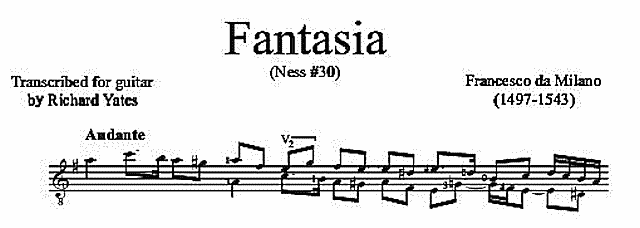
Прослушайте эту мелодию:
Вспоминаем слова эмоционального д-ра Шептовицкого:
Зеэв, ты ведь не совсем глухой. Ты ведь, кажется, когда-то даже брал в руки скрипку. Ну не могла же математика истребить в тебе нормальное человеческое начало! Так послушай внимательно сам…
Слушаем. Слушаем ещё раз первые шесть нот:
Если уж основой мелодии «Die Fahne hoch» считают фрагменты оперы «Жозеф», то здесь…
Первые шесть нот… а первые шесть слогов песни «Город» — ведь это:
Над не-бом го-лу-бым…
Соответствующая именно этим словам музыкальная фраза стала позывными целого поколения. Слово г-ну Гейзелю:
… Если композитор ухитряется за свою жизнь сочинить хотя бы одну музыкальную фразу, которую запомнит (и будет напевать) один миллион человек, — он состоялся как композитор.
«Музыка этой песни никакого отношения к Франческо Канова да Милано и вообще к лютневой музыке итальянского средневековья не имеет». Да уж… не имеет…
Г-ну Гейзелю нужно было бы спросить у д-ра Леви Шептовицкого: «А нет ли у Франческо таких музыкальных фрагментов, которые могли бы являться основой для мелодии песни?».
Совершенно неясно, ставился ли так вопрос и было ли проведено соответствующее тщательное исследование.
Итак, непричастность Франческо к мелодии нашего шлягера не доказана. Более того, мы слышим эту самую причастность. Пусть так. Но ведь кто-то же, как минимум, обработал, аранжировал, осовременил музыку! Кто бы это мог быть?
Да кто угодно. Помимо В. Вавилова, пластинку 1970 (1971, 1972) года делали ещё насколько человек, там перечислены следующие фамилии: В. Буяновский, Н. Вайнер, М. Шахин, В. Курлин, Л. Перепёлкин.
Разумеется, это мог быть и В. Ф. Вавилов. И если это он обработал и скомпоновал для пластинки произведение, названное им «Канцона и танец», то логично предположить, что вовсе не природная скромность (а В. Ф. Вавилов, несомненно, очень порядочный и скромный человек), а обычная щепетильность классного музыканта, понимание того, что музыкальная идея принадлежит не ему, не позволили ему написать рядом с названием хотя бы так, как это было написано там же, рядом с номером 3, «Ave Maria»: «Неизвестный автор XVI века».
Близкие ему люди знали, что он работал над этим произведением, и это знание могло трансформироваться у них в последующее убеждение, что именно он и сочинил его.
Увы, это всего лишь предположения, а не доказательства! Г-н Гейзель и сам прекрасно это понимает. Почему я так утверждаю? Смотрите сами.
Г-н Гейзель — математик. И он отдаёт себе отчёт в том, что доказательство авторства В. Ф. Вавилова автоматически означает, что «божественный» Франческо автором не является. И он понимает, что обратное утверждение неверно, что непричастность Франческо к мелодии песни вовсе не влечёт за собой автоматического авторства В. Ф. Вавилова, хотя и делает его весьма вероятным. Понимая всё это, г-н Гейзель уделяет чрезвычайно много внимания доказыванию непричастности Франческо. Стало быть, он осознаёт, что без этого его доказательства относительно авторства В. Ф. Вавилова выглядят слишком слабыми.
(Говоря в скобках: вторая часть композиции, названной В. Ф. Вавиловым «Канцона и танец», остаётся как бы в тени гораздо более известной первой части, «Канцоны». Но раз сам В. Ф. Вавилов почему-то счёл нужным объединить их в одно целое и связать с именем Франческо, то, естественно, возникает вопрос и об авторстве «Танца». Трудно понять, насколько глубоко исследовался этот вопрос.)
Как было справедливо отмечено в комментариях (witkowsky),
для того, чтобы считать автором В. Вавилова, нужны не косвенные, а прямые доказательства. Тот самый лист бумаги (нотной), пусть без подписи Вавилова, но его почерком, с нотами мелодии. А ведь нотные почерки распознаются легче любых других… Нужны прямые. Хоть одно.
Вот именно. Без всего этого многочисленные публикации очерка г-на Зеэва Гейзеля «История одной песни» неизбежно будут нести на себе печать пиаровской акции. В своём недавнем письме Зеэв Гейзель приводит следующий аргумент:
… Понятие «доказательство» в музыковедении и в математике действительно различно. Лучшим доказательством был бы автограф — который я (пока) не нашёл. Но в подавляющем большинстве случаев мы принимаем авторство литературных и музыкальных произведений при полном отсутствии автографа — в противном случае объясните мне, пожалуйста, какое право мы имеем ставить имя У. Шекспира над пьесой «Гамлет» (только не надо, пожалуйста, обсуждать здесь антишекспировские теории). И кто видел рукопись «Гулливера», а потом сличил почерк с образцом подписи настоятеля собора св. Патрика?..
Право ставить подпись Шекспира даётся нам, как это ни странно, исключительно многовековой традицией. Грубо говоря, сведения об авторстве передаются по цепочке поколений. При отсутствии прямых доказательств сомнения всегда имеют право на существование, и антишекспировские теории — лишнее тому подтверждение. Даже при наличии автографов подобные сомнения могут присутствовать — вспомним хотя бы «Тихий Дон».
В любом случае, г-ном Гейзелем проделана огромная работа, в результате которой были получены впечатляющие результаты. Тем не менее, лично мне ближе такая формулировка её итогов: «Было выяснено, что Франческо, по-видимому, не является автором произведения под названием „Канцона“. Есть определённые основания полагать, что оно было написано В. Ф. Вавиловым».
Говорить так — это пока что и точнее, и правильней.
Валентин Антонов, декабрь 2005 года