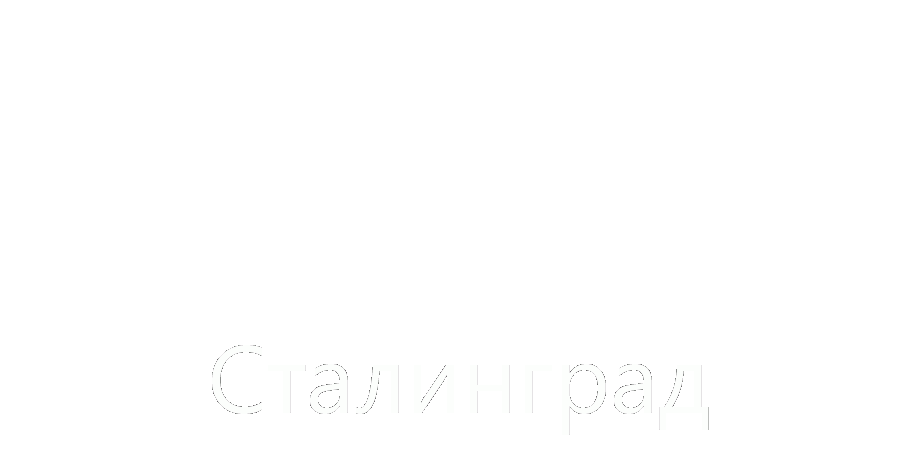Лет двенадцать тому назад в «Крымской правде» была опубликована моя статья под названием «Скажи: шибболет!». Напомню вкратце её суть. В Библии есть рассказ о том, как два близкородственных еврейских племени впали в братоубийственную междоусобную войну: «И перехватили Галаадитяне переправу через Иордан от Ефремлян, и когда кто из уцелевших Ефремлян говорил: позвольте мне переправиться» то жители Галаадские говорили ему: «Не Ефремлянин ли ты?» Он говорил: «нет». Они говорили ему: скажи: шибболет, а он говорил: сибболет, и не мог иначе выговорить. Тогда они, взяв его, закололи у переправы через Иордан. И пало в то время от Ефремлян сорок две тысячи» (Судей: 12,5—6).
В наши дни слово «шибболет» стало политическим термином, обозначаем своего рода пропуск, позволяющий отличить «наших» от «не наших». Типичным шибболетом, например, стало слово «кукуруза», которое еврейские погромщики заставляли произносить в нашей стране лиц с неславянской внешностью. Если слово произносилось с грассирующим «р», то жида зарубали шашками.
С этой точки зрения шибболетами оказываются введённые в то же время, что и моя статья, обороты «в Украине» и «из Украины» вместо нормативно правильных «на Украине» и «с Украины». Ладно бы нововведение касалось одной только мовы, но националистически настроенные филологи посягнули на норму языка русского. Это не просто неэтично. Это конфронтационно. Филологическая инновация отнюдь не так безобидна. Оба оборота чрезвычайно частотны. Допустим теперь, что вы — экзаменатор, а я — студент. И вот я принципиально произношу вместо «в Украине» «на Украине»... Замените теперь ситуацию на «вы судья, а я — подсудимый»… Из таких вот мелких обид и складываются крупные неприятности. Вы осознали опасность шибболета?..
Вадим Алексеев, «Шибболет» (январь 2010 года)
«Сойдем же, и смешаем там язык их,
так чтобы один не понимал речи другого.
И рассеял их Господь оттуда по всей земле»
Книга Бытия, 11, 7—8
С тех пор, со времён вавилонского разделения, человечество всё время выбирает язык межнационального общения — будь то греческий или латынь, французский или английский. Существовало с давних времён и существует до сих пор множество проектов по созданию некоего универсального языка, способного объединить народы.
Наиболее удачным оказался искусственный язык, искусственный язык, созданный человеком по имени Лазарь Заменгоф, родившимся в городе Белостоке, где проживали и поляки, и немцы, и белорусы, но основным населением были там евреи, говорившие на идише. Доктор Эсперанто наивно полагал, что главная причина антисемитизма и ненависти, с которым он сталкивался в Белостоке ещё задолго до Второй мировой войны, заключалась в отсутствии общего языка. Это было время еврейского романтизма, и потому Лазарь Маркович назвал свой выдуманный язык красивым словом «эсперанто», что означает — «надежда» (позднее, в годы нацистской оккупации, почти всё еврейское население Белостока — 56 тысяч человек — было уничтожено).
Однако подобная задача, поистине «богоборческая», — создать и распространить объединяющий народы язык — оказалась для людей пока что непосильно тяжёлой и даже способной иногда свести их с ума. Мой добрый приятель Димка Алексеев, выдающийся переводчик поэзии Шарля Бодлера, преподавая теорию перевода и одновременно работая в своей лингвистической лаборатории над созданием некоего промежуточного языка, ещё одного, нового эсперанто для переводчиков, будучи при этом человеком творческим и несколько мистическим, пришёл к сумасшедшему выводу: любой текст существует в космическом пространстве уже изначально и вневременно, так что задача автора — лишь суметь этот «божественный» текст прочитать, перевести его с «языка до вавилонского смешения» на тот обычный человеческий язык, носителем которого автор, собственно, и является (интересно, что Дима Алексеев — он ведь из Крыма, где особенно чувствуется смешение и культур, и языков различных времён и самых разных народов).
Существует в современном мире эсперанто-движение под названием «Окончательная Победа» (эспер. Fina Venko) и с целью так или иначе, сверху или снизу, но всё-таки внедрить эсперанто — что само по себе вполне соответствует идеологии тотального глобализма.
Уже сейчас предлагается ввести эсперанто в качестве официального языка Евросоюза, а в некоторых странах (да в той же Украине, например) в законодательном порядке рекомендуется изучать эсперанто как факультатив в учебных заведениях.
Окончательная победа… Venko — победа, fin — конец, финиш.
«Окончательная победа». Звучит несколько грозно и напоминает — «окончательное решение вопроса».
Но ведь главной особенностью любого живого языка является как раз не статичность, а процесс, процесс его формирования. Язык невозможно оторвать от истории народа, от его культуры, от географии даже, от торговли и от экономики, от праздников и от будней, от радостей и от бед, от мира и от войны. Словом, язык народа — это его история, его традиции. И потому всякий живой язык неразрывно связан с ментальностью народа, на нём говорящего.
Venko — победа… Возможно ли, чтобы мы называли наш День Победы — Venkotago? Я, например, слышу в этом эсперантском слове немецкий язык: «Tag» — означает «день» (что, конечно, вовсе не удивительно, ведь великий Заменгоф, придумавший этот универсальный язык, так и не смог уйти от родного своего языка — языка ашкеназских евреев, идиша).
Venko — победа. Venko — бессмысленное, исторически, культурно и эмоционально не окрашенное слово, что означает оно на других, нормальных человеческих языках, как оно воспринимается?
В английском, французском, испанском, во многих других языках для обозначения победы используют слово, производное от латинского Victoria, имени римской богини победы. И это, скорее всего, не случайно: видимо, у говорящих на этих языках людей и восприятие слова «победа» примерно одинаково — они словно бы принимают и продолжают традицию великих военных побед Рима. Часто в этих языках употребляется также и слово «триумф», имеющее некоторый экзальтированный оттенок, — а это уже «сверхпобеда». В истоках этого слова — традиция торжественной встречи непобедимого победителя, вернувшегося в Рим с богатыми военными трофеями: триумф — тройной шаг (и ведь даже слово это, само по себе, было позаимствовано римлянами из греческого языка). «День Победы» по-английски — это «Victory Day», а по-французски — «Jour de la Victoire».
А в голландском языке «победа» — это «overwinning», с оттенком «завоёвывать», «покорять» — очевидно, уже после завоевания.
В польском языке «победа» — это «zwycięstwo», а в чешском — «vítězství». Навеяно доблестью, удалью, геройством; сравните с русским словом «витязь». «День Победы» по-чешски — это «Den vítězství». Тоже ведь красиво.
А вот победа в украинском и в белорусском языках — это перемога. Пере-мога, пере-мочь. Пересилить, превозмочь, преодолеть. По-белорусски — Дзень Перамогі.
И есть только одна «победа», не связанная ни с богатой добычей, ни с беспримерной доблестью, ни с превозмочь или «я всё смогу», а с горем. Это наше русское слово «победа», то есть — после беды. Восприятие любой войны, прежде всего, как несчастья. И вовсе не случайно, что слово это, «победа», в древнерусском языке одновременно означало и «поражение». Всё то, что наступает после войны, даже если и закончилось всё триумфом. Победа. День Победы. Этот праздник — со слезами на глазах…
Самой неожиданной реакцией на мой вопрос — «А как будет по-немецки эсперантское слово Venko?» — оказалась реакция моего знакомого немца с такой приятной и распространённой в Германии фамилией Бах (кстати, в его фамилии мне, конечно же, слышится «ручей» — подобно тому, как в привычной для нас фамилии Пушкин иностранец наверняка услышит «пушку»).
Некоторое время герр Бах, как бы не понимая, о чём я спрашиваю, улыбался и, радостно размахивая птичкой из двух пальцев, повторял:
— Victory, Victory!..
— Но это ведь английское слово, — не отставала я, — а настоящее-то как будет, немецкое?
Понимая, к чему я клоню, он громко захихикал и замахал руками, будто отбиваясь от щекотки.
— Ну? Ну же? — подтрунивала я.
И вдруг он, ещё с улыбкой на лице, ссутулился, его глаза потускнели, а улыбка превратилась в смущенную, почти извиняющуюся гримасу, словно его неожиданно застали за чем-то постыдным:
— Не провоцируйте меня, — тихо произнёс он.
Мне стало вдруг неловко, да и жаль его, но я всё ещё ждала: вот сейчас мы рассмеёмся, пошутим, напряжение уйдёт. Ведь мне и в самом деле не приходило в голову, что какое-то традиционное и вполне ведь нормальное слово, особенно слово, связанное с героизмом, может окраситься в неприятный оттенок и что от самого этого слова будут шарахаться, будут его избегать, как запятнанного, замаранного. Весь оставшийся вечер герр Бах отводил глаза в сторону, но так и не смог произнести это запретное немецкое слово — «Sieg».
… Иногда, и особенно часто это случается после больших потрясений, знакомые нам однозначные слова приобретают ещё и переносное значение, становясь символами.
Больше всего в Германии, где мне довелось прожить примерно полгода, меня раздражало это их слезливое — «Ах, как нам жалко евреев!.. Как мы виноваты!..». Говорили это вслух, а бывало, видела сама, что и пустит слезу какая-нибудь экзальтированная антифашистка.
Чудилась мне в этом какая-то фальшь — интонации, что-ли, были не те, вроде как «птичку жалко», с этой же интонацией они жалели бездомных собак или негров в Африке. И потому очень я не любила бывать там на каких-нибудь антифашистских мероприятиях: обязательно скатятся в сентиментальное самобичевание. Но вот однажды я почувствовала и увидела что-то настоящее, не для галочки, что-то стихийное и потому неподдельное.
Шествие неофашистов в Гейдельберге было объявлено заранее и ни для кого не являлось секретом. В то утро я притащила на балкон нашей съёмной квартиры яйца и помидоры, намереваясь, если вдруг придётся и получится, со своей безопасно-трусливой высоты бросать их в проходящую по главной улице колонну. Незадолго до шествия множество переулков и улочек, примыкающих к единственной в городе площади, стали заполняться людьми — в основном, студентами и преподавателями, из которых, собственно, и состоит население города (там почти все жители так или иначе связаны со знаменитым Гейдельбергским университетом, подобно как в Оксфорде или Кембридже). Очень быстро всё вокруг было занято людьми, пришедшими посмотреть на нацистский марш.
Не очень многочисленная, но организованная колонна подтянутых молодых нацистов энергично и быстро промаршировала по центральной улице и остановилась на площади. Они построились в каре; в центр вышли несколько человек, чтобы начать митинг. Я уже взяла было в руки свои боеприпасы и приготовилась.
Но тут вдруг послышался какой-то странный гул, какое-то всё нараставшее жужжание. Показалось, что оно идёт откуда-то справа, и я наклонилась с балкона, всматриваясь в толпу в переулке и пытаясь сообразить, откуда доносятся эти непонятные звуки. Затем гул переметнулся влево, по другую сторону площади. Неонацисты стали оборачиваться, закрутили во все стороны головами, уже не слушая речь своего лидера.
А гул всё нарастал и усиливался то с одной, то с другой стороны, забивая голос оратора. Постепенно глухой тот гул перешёл в ропот, всё громче, громче, возмущённый ропот быстро соединился в единый возглас, и вот уже все люди, собравшиеся вокруг площади, подняв один кулак вверх, вся эта толпа — скандировала:
— Сталинград! Сталинград! Сталинград!..
Митинг неонацистов был скомкан, они быстро построились и кое-как удалились.
… А те яйца и помидоры, помнится, мы тогда съели за ужином.
Ирина Легкодух, май 2014 года